водой и мылом; они только страшно парятся и потом обливаются холодной водой
- вот и вся баня. Веников пятьдесят на полке подымалось и опускалось разом;
все хлестались до опьянения. Пару поддавали поминутно. Это был уж не жар;
это было пекло. Все это орало и гоготало, при звуке ста цепей, волочившихся
по полу... Иные, желая пройти, запутывались в чужих цепях и сами задевали
по головам сидевших ниже, падали, ругались и увлекали за собой задетых.
Грязь лилась со всех сторон. Все были в каком-то опьянелом, в каком-то
возбужденном состоянии духа; раздавались визги и крики. У окошка в
предбаннике, откуда подавали воду, шла ругань, теснота, целая свалка.
Полученная горячая вода расплескивалась на головы сидевших на полу, прежде
чем ее доносили до места. Нет-нет, а в окно или в притворенную дверь
выглянет усатое лицо солдата, с ружьем в руке, высматривающего, нет ли
беспорядков. Обритые головы и распаренные докрасна тела арестантов казались
еще уродливее. На распаренной спине обыкновенно ярко выступают рубцы от
полученных когда-то ударов плетей и палок, так что теперь все эти спины
казались вновь израненными. Страшные рубцы! У меня мороз прошел по коже,
смотря на них. Поддадут - и пар застелет густым, горячим облаком всю баню;
все загогочет, закричит. Из облака пара замелькают избитые спины, бритые
головы, скрюченные руки, ноги; а в довершение Исай Фомич гогочет во все
горло на самом высоком полке. Он парится до беспамятства, но, кажется,
никакой жар не может насытить его; за копейку он нанимает парильщика, но
тот наконец не выдерживает, бросает веник и бежит отливаться холодной
водой. Исай Фомич не унывает и нанимает другого, третьего: он уже решается
для такого случая не смотреть на издержки и сменяет до пяти парильщиков.
"Здоров париться, молодец Исай Фомич!" - кричат ему снизу арестанты. Исай
Фомич сам чувствует, что в эту минуту он выше всех и заткнул всех их за
пояс; он торжествует и резким, сумасшедшим голосом выкрикивает свою арию:
ля-ля-ля-ля-ля, покрывающую все голоса. Мне пришло на ум, что если все мы
вместе будем когда-нибудь в пекле, то оно очень будет похоже на это место.
Я не утерпел, чтоб не сообщить эту догадку Петрову; он только поглядел
кругом и промолчал.
объявил, что ему очень ловко. Баклушин между тем покупал нам воду и
подносил ее по мере надобности. Петров объявил, что вымоет меня с ног до
головы, так что "будете совсем чистенькие", и усиленно звал меня париться.
Париться я не рискнул. Петров вытер меня всего мылом. "А теперь я вам ножки
вымою", - прибавил он в заключение. Я было хотел отвечать, что могу вымыть
и сам, но уж не противоречил ему и совершено отдался в его волю. В
уменьшительном "ножки" решительно не звучало ни одной нотки рабской;
просто-запросто Петров не мог назвать моих ног ногами, вероятно, потому,
что у других, у настоящих людей, - ноги, а у меня еще только ножки.
предостережениями на каждом шагу, точно я был фарфоровый, доставил меня в
предбанник и помог надеть белье и, уже когда совершенно кончил со мной,
бросился назад в баню, париться.
отказался, выпил и поблагодарил. Мне пришло в голову раскошелиться и
попотчевать его косушкой. Косушка нашлась и в нашей казарме. Петров был
отменно доволен, выпил, крякнул и, заметив мне, что я совершенно оживил
его, поспешно отправился в кухню, как будто там без него чего-то не могли
решить. Вместо него ко мне явился другой собеседник, Баклушин (пионер),
которого я еще в бане тоже позвал к себе на чай.
другим, он даже часто ссорился, не любил, чтоб вмешивались в его дела, -
одним словом, умел за себя постоять. Но он ссорился ненадолго, и, кажется,
все у нас его любили. Куда он ни входил, все встречали его с удовольствием.
Его знали даже в городе как забавнейшего человека в мире и никогда не
теряющего своей веселости. Это был высокий парень, лет тридцати, с
молодцеватым и простодушным лицом, довольно красивым, и с бородавкой. Это
лицо он коверкал иногда так уморительно, представляя встречных и
поперечных, что окружавшие его не могли не хохотать. Он был тоже из
шутников; но не давал потачки нашим брезгливым ненавистникам смеха, так что
его уж никто не ругал за то, что он "пустой и бесполезный" человек. Он был
полон огня и жизни. Познакомился он со мной еще с первых дней и объявил
мне, что он из кантонистов, служил потом в пионерах и был даже замечен и
любим некоторыми высокими лицами, чем, по старой памяти, очень гордился.
Меня он тотчас же стал расспрашивать о Петербурге. Он даже и книжки читал.
Придя ко мне на чай, он сначала рассмешил всю казарму, рассказав, как
поручик Ш. отделал утром нашего плац-майора, и, сев подле меня, с довольным
видом объявил мне, что, кажется, театр состоится. В остроге затевался театр
на праздниках. Объявились актеры, устраивались помаленьку декорации.
Некоторые из города обещались дать свои платья для актерских ролей, даже
для женских; даже, через посредство одного денщика, надеялись достать
офицерский костюм с эксельбантами. Только бы плац-майор не вздумал
запретить, как прошлого года. Но прошлого года на рождестве майор был не в
духе: где-то проигрался, да и в остроге к тому же нашалили, вот он и
запретил со зла, а теперь, может быть, не захочет стеснять. Одним словом,
Баклушин был в возбужденном состоянии. Видно было, что он один из главных
зачинщиков театра, и я тогда же дал себе слово непременно побывать на этом
представлении. Простодушная радость Баклушина об удаче театра была мне по
сердцу. Слово за слово, и мы разговорились. Между прочим, он сказал мне,
что не все служил в Петербурге; что он там в чем-то провинился и его
послали в Р., впрочем, унтер-офицером, в гарнизонный батальон.
влюбился!
тамошнего немца из пистолета подстрелил. Да ведь стоит ли ссылать из-за
немца, посудите сами!
одного убийства...
Р., вижу - город хороший, большой, только немцев много. Ну, я, разумеется,
еще молодой человек, у начальства на хорошем счету, хожу себе шапку
набекрень, время провожу, значит. Немкам подмигиваю. И понравилась тут мне
одна немочка, Луиза. Они обе были прачки, для самого ни на есть чистого
белья, она и ее тетка. Тетка-то старая, фуфырная такая, а живут зажиточно.
Я сначала мимо окон концы давал, а потом и настоящую дружбу свел. Луиза и
по-русски говорила хорошо, а только так, как будто картавила, - этакая то
есть милушка, что я и не встречал еще такой никогда. Я было сначала того да
сего, а она мне: "Нет, этого не моги, Саша, потому я хочу всю невинность
свою сохранить, чтоб тебе же достойной женой быть", и только ласкается,
смеется таково звонко... да чистенькая такая была, я уж и не видал таких,
кроме нее. Сама же взманила меня жениться. Ну как не жениться, подумайте!
Вот я готовлюсь с просьбой идти к подполковнику... Вдруг смотрю - Луиза раз
на свидание не вышла, другой не пришла, на третий не бывала... Я письмо
отправляю; на письмо нет ответу. Что ж это, думаю? То есть кабы обманывала
она меня, так ухитрилась бы, и на письмо бы отвечала, и на свидание бы
приходила. А она и солгать-то не сумела; так просто отрезала. Это тетка,
думаю. К тетке я ходить не смел; она хоть и знала, а мы все-таки под видом
делали, то есть тихими стопами. Я как угорелый хожу, написал последнее
письмо и говорю: "Коль не придешь, сам к тетке приду". Испугалась, пришла.
Плачет; говорит, один немец, Шульц, дальний их родственник, часовщик,
богатый и уж пожилой, изъявил желание на ней жениться, - "чтоб, говорит, и
меня осчастливить, и самому на старости без жены не остаться; да и любит он
меня, говорит, и давно уж намерение это держал, да все молчал, собирался.
Так вот, говорит, Саша, он богатый, и это для меня счастье; так неужели ж
ты меня моего счастья хочешь лишить?" Я смотрю: она плачет, меня
обнимает... Эх, думаю, ведь резон же она говорит! Ну, что толку за солдата
выйти, хотя б я и унтер? "Ну, говорю, Луиза, прощай, бог с тобой; нечего
мне тебя твоего счастья лишать. А что он, хорош?" - "Нет, говорит, пожилой
такой, с длинным носом..." Даже сама рассмеялась. Ушел я от нее; что ж,
думаю, не судьба! На другое это утро пошел я под его магазин, улицу-то она
мне сказала. Смотрю в стекло: сидит немец, часы делает, лет этак сорока
пяти, нос горбатый, глаза выпучены, во фраке и в стоячих воротничках,
этаких длинных, важный такой. Я так и плюнул; хотел было у него тут же
стекло разбить... да что, думаю! нечего трогать, пропало, как с возу упало!
Пришел в сумерки в казарму, лег на койку и вот, верите ли, Александр
Петрович, как заплачу...



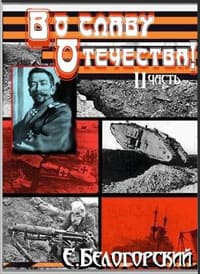


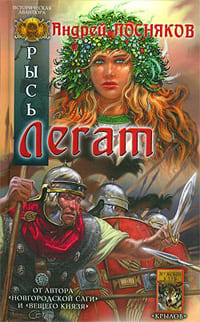 Посняков Андрей
Посняков Андрей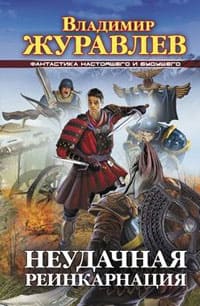 Журавлев Владимир
Журавлев Владимир Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Беляев Александр
Беляев Александр Никитин Юрий
Никитин Юрий Самойлова Елена
Самойлова Елена