воспоминании моем гораздо тусклее. Иные как будто совсем стушевались,
слились между собою, оставив по себе одно цельное впечатление: тяжелое,
однообразное, удушающее.
теперь как будто вчера случившимся. Да так и должно быть.
как будто и не нашел в ней ничего особенно поражающего, необыкновенного
или, лучше сказать, неожиданного. Все это как будто и прежде мелькало
передо мной в воображении, когда я, идя в Сибирь, старался угадать вперед
мою долю. Но скоро бездна самых странных неожиданностей, самых чудовищных
фактов начала останавливать меня почти на каждом шагу. И уже только
впоследствии, уже довольно долго пожив в остроге, осмыслил я вполне всю
исключительность, всю неожиданность такого существования и все более и
более дивился на него. Признаюсь, что это удивление сопровождало меня во
весь долгий срок моей каторги; я никогда не мог примириться с нею.
отвратительное; но, несмотря на то, - странное дело! - мне показалось, что
в остроге гораздо легче жить, чем я воображал себе дорогой. Арестанты, хоть
и в кандалах, ходили свободно по всему острогу, ругались, пели песни,
работали на себя, курили трубки, даже пили вино (хотя очень не многие), а
по ночам иные заводили картеж. Самая работа, например, показалась мне вовсе
не так тяжелою, каторжною, и только довольно долго спустя я догадался, что
тягость и каторжность этой работы не столько в трудности и беспрерывности
ее, сколько в том, что она - принужденная, обязательная, из-под палки.
Мужик на воле работает, пожалуй, и несравненно больше, иногда даже и по
ночам, особенно летом; он работает на себя, работает с разумною целью, и
ему несравненно легче, чем каторжному на вынужденной и совершенно для него
бесполезной работе. Мне пришло раз на мысль, что если б захотели вполне
раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, так
что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугался его
заранее, то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей
бесполезности и бессмыслицы. Если теперешняя каторжная работа и
безынтересна и скучна для каторжного, то сама по себе, как работа, она
разумна: арестант делает кирпич, копает землю, штукатурит, строит; в работе
этой есть смысл и цель. Каторжный работник иногда даже увлекается ею, хочет
сработать ловчее, спорее, лучше. Но если б заставить его, например,
переливать воду из одного ушата в другой, а из другого в первый, толочь
песок, перетаскивать кучу земли с одного места на другое и обратно, - я
думаю, арестант удавился бы через несколько дней или наделал бы тысячу
преступлений, чтоб хоть умереть, да выйти из такого унижения, стыда и муки.
Разумеется, такое наказание обратилось бы в пытку, в мщение и было бы
бессмысленно, потому что не достигало бы никакой разумной цели. Но так как
часть такой пытки, бессмыслицы, унижения и стыда есть непременно и во
всякой вынужденной работе, то и каторжная работа несравненно мучительнее
всякой вольной, именно тем, что вынужденная.
понятия о летней работе, впятеро тяжелейшей. Зимою же в нашей крепости
казенных работ вообще было мало. Арестанты ходили на Иртыш ломать старые
казенные барки, работали по мастерским, разгребали у казенных зданий снег,
нанесенный буранами, обжигали и толкли алебастр и проч. и проч. Зимний день
был короток, работа кончалась скоро, и весь наш люд возвращался в острог
рано, где ему почти бы нечего было делать, если б не случалось кой-какой
своей работы. Но собственной работой занималась, может быть, только треть
арестантов, остальные же били баклуши, слонялись без нужды по всем казармам
острога, ругались, заводили меж собой интриги, истории, напивались, если
навертывались хоть какие-нибудь деньги; по ночам проигрывали в карты
последнюю рубашку, и все это от тоски, от праздности, от нечего делать.
Впоследствии я понял, что, кроме лишения свободы, кроме вынужденной работы,
в каторжной жизни есть еще одна мука, чуть ли не сильнейшая, чем все
другие. Это: вынужденное общее сожительство. Общее сожительство, конечно,
есть и в других местах; но в острог-то приходят такие люди, что не всякому
хотелось бы сживаться с ними, и я уверен, что всякий каторжный чувствовал
эту муку, хотя, конечно, большею частью бессознательно.
что такой нет в арестантских ротах европейской России. Об этом я не берусь
судить: я там не был. К тому же многие имели возможность иметь собственную
пищу. Говядина стоила у нас грош за фунт, летом три копейки. Но собственную
пищу заводили только те, у которых водились постоянные деньги; большинство
же каторги ело казенную. Впрочем, арестанты, хвалясь своею пищею, говорили
только про один хлеб и благословляли именно то, что хлеб у нас общий, а не
выдается с весу. Последнее их ужасало: при выдаче с весу треть людей была
бы голодная; в артели же всем доставало. Хлеб наш был как-то особенно
вкусен и этим славился во всем городе. Приписывали это удачному устройству
острожных печей. Щи же были очень неказисты. Они варились в общем котле,
слегка заправлялись крупой и, особенно в будние дни, были жидкие, тощие.
Меня ужаснуло в них огромное количество тараканов. Арестанты же не обращали
на это никакого внимания.
новоприбывшим: давалось отдохнуть с дороги. Но на другой же день мне
пришлось выйти из острога, чтоб перековаться. Кандалы мои были неформенные,
кольчатые, "мелкозвон", как называли их арестанты. Они носились наружу.
Форменные же острожные кандалы, приспособленные к работе, состояли не из
колец, а из четырех железных прутьев, почти в палец толщиною, соединенных
между собою тремя кольцами. Их должно было надевать под панталоны. К
серединному кольцу привязывался ремень, который в свою очередь прикреплялся
к поясному ремню, надевавшемуся прямо на рубашку.
барабан пробил зорю, и минут через десять караульный унтер-офицер начал
отпирать казармы. Стали просыпаться. При тусклом свете, от шестериковой
сальной свечи, подымались арестанты, дрожа от холода, с своих нар. Большая
часть была молчалива и угрюма со сна. Они зевали, потягивались и морщили
свои клейменые лбы. Иные крестились, другие уже начинали вздорить. Духота
была страшная. Свежий зимний воздух ворвался в дверь, как только ее
отворили, и клубами пара понесся по казарме. У ведер с водой столпились
арестанты; они по очереди брали ковш, набирали в рот воды и умывали себе
руки и лицо изо рта. Вода заготовлялась с вечера парашником. Во всякой
казарме по положению был один арестант, выбранный артелью, для прислуги в
казарме. Он назывался парашником и не ходил на работу. Его занятие состояло
в наблюдении за чистотой казармы, в мытье и в скоблении нар и полов, в
приносе и выносе ночного ушата и в доставлении свежей воды в два ведра -
утром для умывания, а днем для питья. Из-за ковша, который был один,
начались немедленно ссоры.
сухощавый и смуглый, с какими-то странными выпуклостями на своем бритом
черепе, толкая другого, толстого и приземистого, с веселым и румяным лицом,
- постой!
монумент вытянулся. То есть никакой-то, братцы, в нем фортикультяпности
нет.
Того только и надо было толстяку, который, очевидно, был в казарме чем-то
вроде добровольного шута. Высокий арестант посмотрел на него с глубочайшим
презрением.
острожном чистяке! 1 Рад, что к разговенью двенадцать поросят принесет.
----
как будто хотел тотчас же кинуться в драку. Я и вправду думал, что будет
драка. Для меня все это было ново, и я смотрел с любопытством. Но
впоследствии я узнал, что все подобные сцены были чрезвычайно невинны и
разыгрывались, как в комедии, для всеобщего удовольствия; до драки же


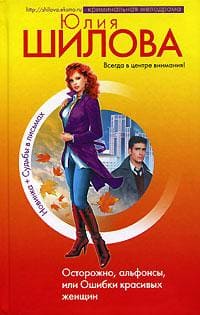
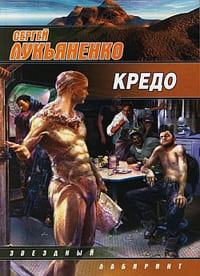


 Акунин Борис
Акунин Борис Свержин Владимир
Свержин Владимир Мичурин Артем
Мичурин Артем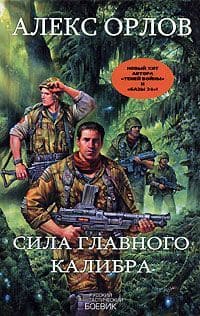 Орлов Алекс
Орлов Алекс Никитин Юрий
Никитин Юрий Доставалов Александр
Доставалов Александр