все вместе, сопровождая главного доктора, а прежде них, часа за полтора,
посещал палату наш ординатор. В то время у нас был ординатором один
молоденький лекарь, знающий дело, ласковый, приветливый, которого очень
любили арестанты и находили в нем только один недостаток: "слишком уж
смирен". В самом деле, он был как-то неразговорчив, даже как будто
конфузился нас, чуть не краснел, изменял порции чуть не по первой просьбе
больных и даже, кажется, готов был назначать им и лекарства по их же
просьбе. Впрочем, он был славный молодой человек. Надо признаться, много
лекарей на Руси пользуются любовью и уважением простого народа, и это,
сколько я заметил, совершенная правда. Знаю, что мои слова покажутся
парадоксом, особенно взяв в соображение всеобщее недоверие всего русского
простого народа к медицине и к заморским лекарствам. В самом деле,
простолюдин скорее несколько лет сряду, страдая самою тяжелою болезнию,
будет лечиться у знахарки или своими домашними, простонародными лекарствами
(которыми отнюдь не надо пренебрегать), чем пойдет к доктору или лежать в
госпитале. Но, кроме того, что тут есть одно чрезвычайно важное
обстоятельство, совершенно не относящееся к медицине, именно: всеобщее
недоверие всего простолюдья ко всему, что носит на себе печать
административного, форменного; кроме того, народ запуган и предубежден
против госпиталей разными страхами, россказнями, нередко нелепыми, но
иногда имеющими свое основание. Но, главное, его пугают немецкие порядки
госпиталя, чужие люди кругом во все продолжение болезни, строгости насчет
еды, рассказы о настойчивой суровости фельдшеров и лекарей, о взрезывании и
потрошении трупов и проч. К тому же, рассуждает народ, господа лечить
будут, потому что лекаря все-таки господа. Но при более близком знакомстве
с лекарями (хотя и не без исключений, но большею частию) все эти страхи
исчезают очень скоро, что, по моему мнению, прямо относится к чести
докторов наших, преимущественно молодых. Большая часть их умеют заслужить
уважение и даже любовь простонародья. По крайней мере я пишу о том, что сам
видел и испытал неоднократно и во многих местах, и не имею оснований
думать, чтоб в других местах слишком часто поступалось иначе. Конечно, в
некоторых уголках лекаря берут взятки, сильно пользуются от своих больниц,
почти пренебрегают больными, даже забывают совсем медицину. Это еще есть;
но я говорю про большинство или, лучше сказать, про тот дух, про то
направление, которое осуществляется теперь, в наши дни, в медицине. Те же,
отступники дела, волки в овечьем стаде, что бы ни представляли в свое
оправдание, как бы ни оправдывались, например хоть средой, которая заела и
их в свою очередь, всегда будут неправы, особенно если при этом потеряли и
человеколюбие. А человеколюбие, ласковость, братское сострадание к больному
иногда нужнее ему всех лекарств. Пора бы нам перестать апатически
жаловаться на среду, что она нас заела. Это, положим, правда, что она
многое в нас заедает, да не все же, и часто иной хитрый и понимающий дело
плут преловко прикрывает и оправдывает влиянием этой среды не одну свою
слабость, а нередко и просто подлость, особенно если умеет красно говорить
или писать. Впрочем, я опять отбился от темы; я хотел только сказать, что
простой народ недоверчив и враждебен более к администрации медицинской, а
не у лекарям. Узнав, каковы они на деле, он быстро теряет многие из своих
предубеждений. Прочая же обстановка наших лечебниц до сих пор во многом не
соответствует духу народа, до сих пор враждебна своими порядками привычками
нашего простолюдья и не в состоянии приобрести полного доверия и уважения
народного. Так мне по крайней мере кажется из некоторых моих собственных
впечатлений.
серьезно и чрезвычайно осматривал его и опрашивал, назначал лекарства,
порции. Иногда он и сам замечал, что больной ничем не болен; но так как
арестант пришел отдохнуть от работы или полежать на тюфяке, вместо голых
досок, и, наконец, все-таки в теплой комнате, а не в сырой кордегардии, где
в тесноте содержатся густые кучи бледных и испитых подсудимых (подсудимые у
нас почти всегда, на всей Руси, бледные и испитые - признак, что их
содержание и душевное состояние почти всегда тяжелее, чем у решоных), то
наш ординатор спокойно записывал им какую-нибудь febris catarhalis5 и
оставлял лежать иногда даже на неделю. Над этой febris catarhalis все
смеялись у нас. Знали очень хорошо, что это принятая у нас, по какому-то
обоюдному согласию между доктором и больным, формула для обозначения
притворной болезни; "запасные колотья", как переводили сами арестанты
febris catarhalis. Иногда больной злоупотреблял мягкосердием лекаря и
продолжал лежать до тех пор, пока его не выгоняли силой. Тогда нужно было
посмотреть на нашего ординатора: он как будто робел, как будто стыдился
прямо сказать больному, чтоб он выздоравливал и скорее бы просился на
выписку, хотя и имел полное право просто-запросто безо всяких разговоров и
умасливаний выписать его, написав ему в скорбном листе sanat est6. Он
сначала намекал ему, потом как бы упрашивал: "Не пора ли, дескать? ведь уж
ты почти здоров, в палате тесно"- и проч. и проч., до тех пор, пока
больному самому становилось совестно и он сам наконец просился на выписку.
Старший доктор хоть был и человеколюбивый и честный человек (его тоже очень
любили больные), но был несравненно суровее, решительнее ординатора, даже
при случае выказывал суровую строгость, и за это его у нас как-то особенно
уважали. Он являлся в сопровождении всех госпитальных лекарей, после
ординатора, тоже свидетельствовал каждого поодиночке, особенно
останавливался над трудными больными, всегда умел сказать им доброе,
ободрительное, часто даже задушевное слово и вообще производил хорошее
впечатление. Пришедших с "запасными колотьями" он никогда не отвергал и не
отсылал назад; но если больной сам упорствовал, то просто-запросто
выписывал его: "Ну что ж, брат, полежал довольно, отдохнул, ступай, надо
честь знать". Упорствовали обыкновенно или ленивые до работ, особенно в
рабочее, летнее время, или из подсудимых, ожидавших себе наказания. Помню,
с одним из таких употреблена была особенная строгость, жестокость даже,
чтоб склонить его к выписке. Пришел он с глазною болезнию: глаза красные,
жалуется на сильную колючую боль в глазах. Его стали лечить мушками,
пиявками, брызгами в глаза какой-то разъедающей жидкостью и проч., но
болезнь все-таки не проходила, глаза не очищались. Мало-помалу догадались
доктора, что болезнь притворная: воспаление постоянно небольшое, хуже не
делается, да и не вылечивается, все в одном положении, случай
подозрительный. Арестанты все давно уже знали, что он притворяется и людей
обманывает, хотя он сам и не признавался в этом. Это был молодой парень,
даже красивый собой, но производивший какое-то неприятное впечатление на
всех нас: скрытный, подозрительный, нахмуренный, ни с кем не говорит,
глядит исподлобья, от всех таится, точно всех подозревает. Я помню - иным
даже приходило в голову, чтоб он не сделал чего-нибудь. Он был солдат,
сильно проворовался, был уличен, и ему выходили тысяча палок и арестантские
роты. Чтоб отдалить минуту наказания, как я уже упоминал прежде, решаются
иногда подсудимые на страшные выходки: пырнет ножом накануне казни
кого-нибудь из начальства или своего же брата арестанта, его и судят
по-новому, и отдаляется наказание еще месяца на два, и цель его
достигается. Ему нужды нет до того, что его будут наказывать через два же
месяца вдвое, втрое суровее; только бы теперь-то отдалить грозную минуту
хоть на несколько дней, а там что бы ни было - до того бывает иногда силен
упадок духа в этих несчастных. У нас иные уже шептались промеж себя, чтоб
остерегаться его: пожалуй, зарежет кого-нибудь ночью. Впрочем, так только
говорили, а особенных предосторожностей никаких не брали даже те, у которых
койки приходились с ним рядом. Видели, впрочем, что он по ночам растирает
глаза известкой со штукатурки и чем-то еще другим, чтоб к утру они опять
стали красные. Наконец главный доктор погрозил ему заволокой. В упорной
глазной болезни, продолжающейся долго и когда уже все медицинские средства
бывают испытаны, чтоб спасти зрение, доктора решаются на сильное и
мучительное средство: ставят больному заволоку, точно лошади. Но бедняк и
тут не согласился выздороветь. Что за упрямый был это характер, или уж
слишком трусливый: ведь заволока была хоть и не так, как палки, но тоже
очень мучительна. Больному собирают сзади на шее кожу рукой, сколько можно
захватить, протыкают все захваченное тело ножом, отчего происходит широкая
и длинная рана по всему затылку, и продевают в эту рану холстинную тесемку,
довольно широкую, почти в палец; потом каждый день, в определенный час, эту
тесемку передергивают в ране, так что как будто вновь ее разрезают, чтоб
рана вечно гноилась и не заживала. Бедняк переносил, впрочем с ужасными
мучениями, и эту пытку упорно несколько дней и наконец только, согласился
выписаться. Глаза его в один день стали совершенно здоровые, и, как только
зажила его шея, он отправился на абвахту, чтоб назавтра же выйти опять на
тысячу палок.
----
быть, я грешу, называя этот страх малодушием и трусостию. Стало быть,
тяжело, когда подвергаются двойному, тройному наказанию, только бы не
сейчас оно исполнилось. Я упоминал, впрочем, и о таких, которые сами
просились скорее на выписку еще с не зажившей от первых палок спиной, чтоб
выходить остальные удары и окончательно выйти из-под суда; а содержание под
судом, на абвахте, конечно, для всех несравненно хуже каторги. Но, кроме
разницы темпераментов, большую роль играет в решимости и бесстрашии
некоторых закоренелая привычка к ударам и к наказанию. Многократно битый
как-то укрепляется духом и спиной и смотрит, наконец, на наказание
скептически, почти как на малое неудобство, и уже не боится его. Говоря
вообще, это верно. Один наш арестантик, из особого отделения, крещеный
калмык Александр или Александра, как звали его у нас, странный малый,
плутоватый, бесстрашный и в то же время очень добродушный, рассказывал мне,
как он выходил свои четыре тысячи, рассказывал смеясь и шутя, но тут же
клялся пресерьезно, что если б с детства, с самого нежного, первого своего
детства, он не вырос под плетью, от которой буквально всю жизнь его в своей


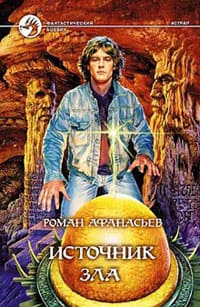

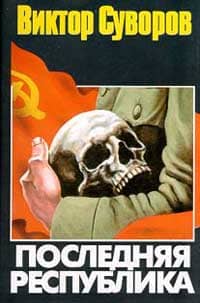
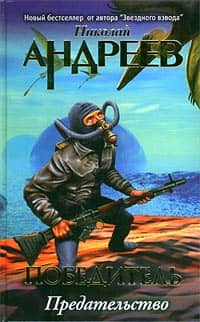
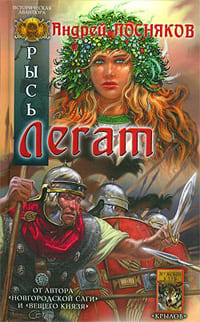 Посняков Андрей
Посняков Андрей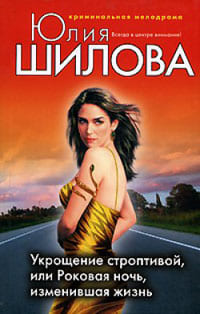 Шилова Юлия
Шилова Юлия Конюшевский Владислав
Конюшевский Владислав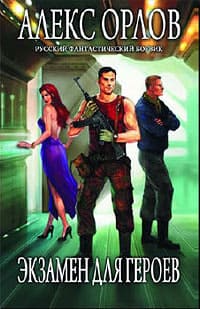 Орлов Алекс
Орлов Алекс Шилова Юлия
Шилова Юлия Бажанов Олег
Бажанов Олег