в других отношениях мог считаться человеком, пожалуй, и добрым, даже лично
обиделся при этом случае. Он хотел было сначала наказать легко, но, не
слыша обычных "ваше благородие, отец родной, помилуйте, заставьте за себя
вечно бога молить" и проч., рассвирепел и дал розог пятьдесят лишних, желая
добиться и крику и просьб, - и добился. "Нельзя-с, грубость есть", -
отвечал он мне очень серьезно. Что же касается до настоящего палача,
подневольного, обязанного, то известно: это арестант решоный и
приговоренный в ссылку, но оставленный в палачах; поступивший сначала в
науку к другому палачу и, выучившись у него, оставленный навек при остроге,
где он содержится особо, в особой комнате, имеющий даже свое хозяйство, но
находящийся почти всегда под конвоем. Конечно, живой человек не машина;
палач бьет хоть и по обязанности, но иногда тоже входит в азарт, но хоть
бьет не без удовольствия для себя, зато почти никогда не имеет личной
ненависти к своей жертве. Ловкость удара, знание своей науки, желание
показать себя перед своими товарищами и перед публикой подстрекают его
самолюбие. Он хлопочет ради искусства. Кроме того, он знает очень хорошо,
что он всеобщий отверженец, что суеверный страх везде встречает и провожает
его, и нельзя ручаться, чтоб это не имело на него влияния, не усиливало в
нем его ярости, его звериных наклонностей. Даже дети знают, что он
"отказывается от отца и матери". Странное дело, сколько мне ни случалось
видеть палачей, все они были люди развитые, с толком, с умом и с
необыкновенным самолюбием, даже с гордостью. Развилась ли в них эта
гордость в отпор всеобщему к ним презрению; усиливалась ли она сознанием
страха, внушаемого ими их жертве, и чувством господства над нею, - не знаю.
Может быть, даже самая парадность и театральность той обстановки, с которою
они являются перед публикой на эшафоте, способствуют развитию в них
некоторого высокомерия. Помню, мне пришлось однажды в продолжение
некоторого времени часто встречать и близко наблюдать одного палача. Это
был малый среднего роста, мускулистый, сухощавый, лет сорока, с довольно
приятным и умным лицом и с кудрявой головой. Он был всегда необыкновенно
важен, спокоен; снаружи держал себя по-джентльменски, отвечал всегда
коротко, рассудительно и даже ласково, но как-то высокомерно ласково, как
будто он чем-то чванился предо мною. Караульные офицеры часто с ним при мне
заговаривали и, право, даже с некоторым как будто уважением к нему. Он это
сознавал и перед начальником нарочно удвоивал свою вежливость, сухость и
чувство собственного достоинства. Чем ласковее разговаривал с ним
начальник, тем неподатливее сам он казался, и хотя отнюдь не выступал из
утонченнейшей вежливости, но, я уверен, в эту минуту он считал себя
неизмеримо выше разговаривавшего с ним начальника. На лице его это было
написано. Случалось, что иногда в очень жаркий летний день посылали его под
конвоем с длинным тонким шестом избивать городских собак. В этом городке
было чрезвычайно много собак, совершенно никому не принадлежавших и
плодившихся с необыкновенною быстротою. В каникулярное время они
становились опасными, и для истребления их, по распоряжению начальства,
посылался палач. Но даже и эта унизительная должность, по-видимому, нимало
не унижала его. Надо было видеть, с каким достоинством он расхаживал по
городским улицам в сопровождении усталого конвойного, пугая уже одним видом
своим встречных баб и детей, как он спокойно и даже свысока смотрел на всех
встречавшихся. Впрочем, палачам жить привольно. У них есть деньги, едят они
очень хорошо, пьют вино. Деньги достаются им через взятки. Гражданский
подсудимый, которому выходит по суду наказание, предварительно хоть
чем-нибудь, хоть из последнего, да подарит палача. Но с иных, с богатых
подсудимых, они сами берут, назначая им сумму сообразно с вероятными
средствами арестанта, берут и по тридцати рублей, а иногда даже и более. С
очень богатыми даже очень торгуются. Очень слабо наказать палач, конечно,
не может; он отвечает за это своей же спиной. Но зато, за известную взятку,
он обещается жертве, что не прибьет ее очень больно. Почти всегда
соглашаются на его предложение; если ж нет, он действительно наказывает
варварски, и это вполне в его власти. Случается, что он налагает
значительную сумму даже на очень бедного подсудимого; родственники ходят,
торгуются, кланяются, и беда, если не удовлетворят его. В таких случаях
много помогает ему суеверный страх, им внушаемый. Каких диковинок про
палачей не рассказывают! Впрочем, сами арестанты уверяли меня, что палач
может убить с одного удара. Но, во-первых, когда ж это было испытано? А,
впрочем, может быть. Об этом говорили слишком утвердительно. Палач же сам
ручался мне, что он это может сделать. Говорили тоже, что он может ударить
со всего размаха по самой спине преступника, но так, что даже самого
маленького рубчика не вскочит после удара и преступник не почувствует ни
малейшей боли. Впрочем, обо всех этих фокусах и утонченностях известно уже
слишком много рассказов. Но если даже палач и возьмет взятку, чтоб наказать
легко, то все-таки первый удар дается им со всего размаха и изо всей силы.
Это даже обратилось между ними в обычай. Последующие удары он смягчает,
особенно если ему предварительно заплатили. Но первый удар, заплатили иль
нет ему, - его. Право, не знаю, для чего это у них так делается? Для того
ли, чтоб сразу приучить жертву к дальнейшим ударам, по тому расчету, что
после очень трудного удара уже не так мучительны покажутся легкие, или тут
просто желание пофорсить перед жертвой, задать ей страху, огорошить ее с
первого раза, что понимала она, с кем дело имеет, показать себя, одним
словом. Во всяком случае палач перед началом наказания чувствует себя в
возбужденном состоянии духа, чувствует силу свою, сознает себя властелином;
он в эту минуту актер; на него дивится и ужасается публика, и, уж конечно,
не без наслаждения кричит он своей жертве перед ударом: "Поддержись, ожгу!
" - обычные и роковые слова в этом случае. Трудно представить, до чего
можно исказить природу человеческую.
рассказов. Лежать было нам всем ужасно скучно. Каждый день так похож один
на другой! Утром еще развлекало нас посещение докторов и потом скоро после
них обед. Еда, разумеется, в таком однообразии представляла значительное
развлечение. Порции были разные, распределенные по болезням лежавших. Иные
получали только один суп с какой-то крупой; другие только одну кашицу;
третьи одну только манную кашу, на которую было очень много охотников.
Арестанты от долгого лежания изнеживались и любили лакомиться.
Выздоравливавшим и почти здоровым давали кусок вареной говядины, "быка",
как у нас говорили. Всех лучше была порция цынготная - говядина с луком, с
хреном и с проч., а иногда и с крышкой водки. Хлеб был, тоже смотря по
болезням, черный или полубелый, порядочно выпеченный. Эта официальность и
тонкость в назначении порций только смешила больных. Конечно, в иной
болезни человек и сам ничего не ел. Но зато те больные, которые чувствовали
аппетит, ели, что хотели. Иные менялись порциями, так что порция,
подходящая к одной болезни, переходила к совершенно другой. Другие, которые
лежали на слабой порции, покупали говядину или цинготную порцию, пили квас,
госпитальное пиво, покупая его у тех, кому оно назначалось. Иные съедали
даже по две порции. Эти порции продавались или перепродавались за деньги.
Говяжья порция ценилась довольно высоко: она стоила пять копеек
ассигнациями. Если в нашей палате не было у кого купить, посылали сторожа в
другую арестантскую палату, а нет - так и в солдатские палаты, в "вольные",
как у нас говорили. Всегда находились охотники продать. Они оставались на
одном хлебе, зато зашибали деньгу. Бедность была, конечно, всеобщая, но те,
которые имели деньжонки, посылали даже на базар за калачами, даже за
лакомствами и проч. Наши сторожа исполняли все эти поручения совершенно
бескорыстно. После обеда наступало самое скучное время; кто от нечего
делать спал, кто болтал, кто ссорился, кто что-нибудь вслух рассказывал.
Если не приводили новых больных, было еще скучнее. Приход новичка почти
всегда производил некоторое впечатление, особенно если он был никому не
знакомый. Его оглядывали, старались узнать, что он и как, откуда и по каким
делам. Особенно интересовались в этом случае пересыльными: те всегда
что-нибудь да рассказывали, впрочем не о своих интимных делах; об этом,
если сам человек не заговаривал, никогда не расспрашивали, а так: откуда
шли? с кем? какова дорога? куда пойдут? и проч. Иные, тут же слыша новый
рассказ, припоминали как бы мимоходом что-нибудь из своего собственного: об
разных пересылках, партиях, исполнителях, о партионных начальниках.
Наказанные шпицрутенами являлись тоже об эту пору, к вечеру. Они всегда
производили довольно сильное впечатление, как, впрочем, и было уже
упомянуто; но не каждый же день их приводили, и в тот день, когда их не
было, становилось у нас как-то вяло, как будто все эти лица одно другому
страшно надоели, начинались даже ссоры. У нас радовались даже сумасшедшим,
которых приводили на испытание. Уловка прикинуться сумасшедшим, чтоб
избавиться от наказания, употреблялась изредка подсудимыми. Одних скоро
обличали или, лучше сказать, они сами решались изменять политику своих
действий, и арестант, прокуралесив два-три дня, вдруг ни с того ни с сего
становился умным, утихал и мрачно начинал проситься на выписку. Ни
арестанты, ни доктора не укоряли такого и не стыдили, напоминая ему его
недавние фокусы; молча выписывали, молча провожали, и дня через два-три он
являлся к нам наказанный. Такие случаи бывали, впрочем, вообще редки. Но
настоящие сумасшедшие, приводившиеся на испытание, составляли истинную кару
божию для всей палаты. Иных сумасшедших, веселых, бойких, кричащих,
пляшущих и поющих, арестанты сначала встречали чуть не с восторгом. "Вот
забава-то! " - говаривали они, смотря на иного только что приведенного
кривляку. Но мне ужасно трудно и тяжело было видеть этих несчастных. Я
никогда не мог хладнокровно смотреть на сумасшедших.
приведенного и встреченного с хохотом сумасшедшего решительно всем у нас
надоедали и дня в два выводили всех из терпения окончательно. Одного из них
держали у нас недели три, и приходилось просто бежать из палаты. Как
нарочно, в это время привели еще сумасшедшего. Этот произвел на меня
особенное впечатление. Случилось это уже на третий год моей каторги. В
первый год, или, лучше сказать, в первые же месяцы моей острожной жизни,
весной, я ходил с одной партией на работу за две версты, в кирпичный завод,





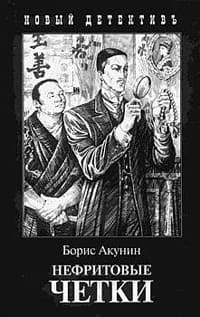
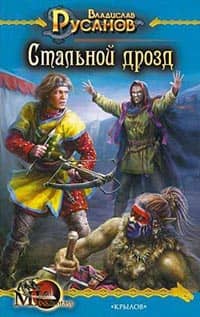 Русанов Владислав
Русанов Владислав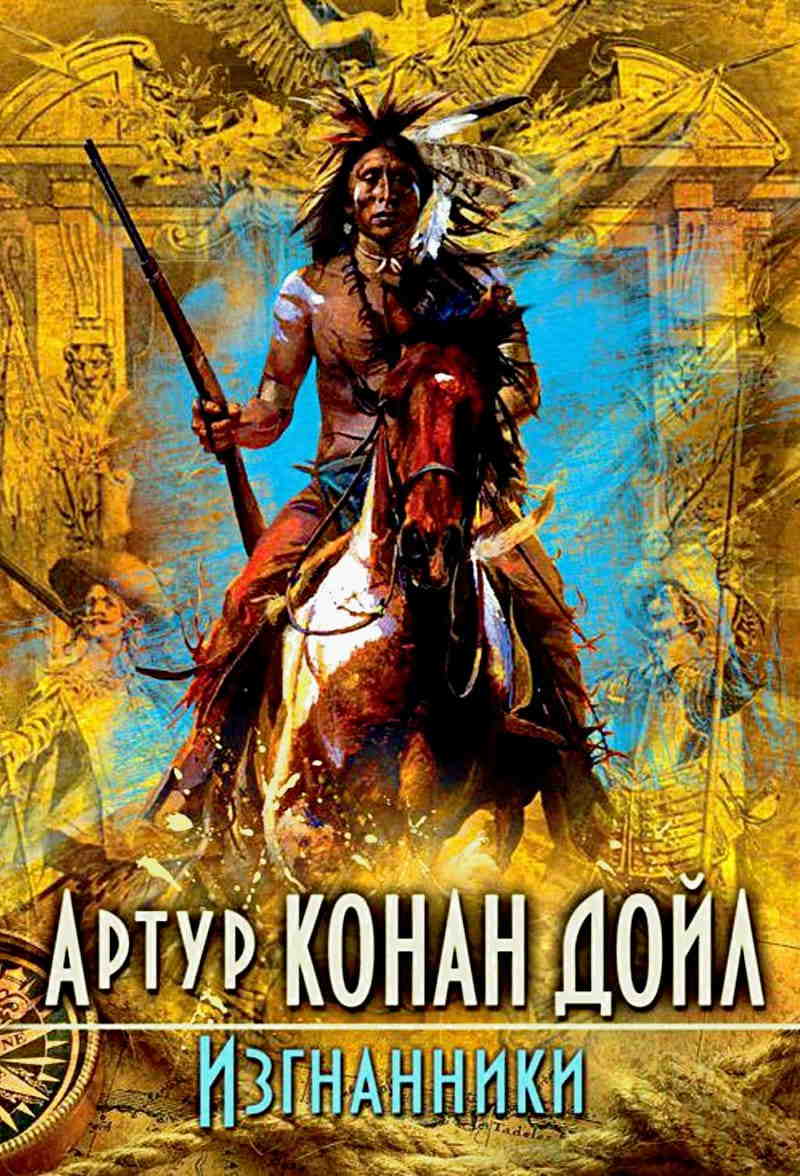 Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур Максимов Альберт
Максимов Альберт Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Лукьяненко Сергей
Лукьяненко Сергей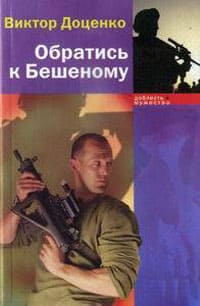 Доценко Виктор
Доценко Виктор