кордегардию!
легким поколом, но намерение было очевидное. Преступнику набавили рабочего
сроку и провели сквозь тысячу. Майор был совершенно доволен...
Дело было в праздник. Еще за несколько дней у нас было все вымыто,
выглажено, вылизано. Арестанты выбриты заново. Платье на них было белое,
чистое. Летом все ходили, по положению, в полотняных белых куртках и
панталонах. На спине у каждого был вшит черный круг, вершка два в диаметре.
Целый час учили арестантов, как отвечать, если на случай высокое лицо
поздоровается. Производились репетиции. Майор суетился как угорелый. За час
до появления генерала все стояли по своим местам как истуканы и держали
руки по швам. Наконец в час пополудни генерал приехал. Это был важный
генерал, такой важный, что, кажется, все начальственные сердца должны были
дрогнуть по всей Западной Сибири с его прибытием. Он вошел сурово и
величаво; за ним ввалилась большая свита сопровождавшего его местного
начальства; несколько генералов, полковников. Был один штатский, высокий и
красивый господин во фраке и башмаках, приехавший тоже из Петербурга и
державший себя чрезвычайно непринужденно и независимо. Генерал часто
обращался к нему, и весьма вежливо. Это необыкновенно заинтересовало
арестантов: штатский, а такой почет, и еще от такого генерала! Впоследствии
узнали его фамилию и кто он такой, но толков было множество. Наш майор,
затянутый, с оранжевым воротником, с налитыми кровью глазами, с багровым
угреватым лицом, кажется, не произвел на генерала особенно приятного
впечатления. Из особенного уважения к высокому посетителю он был без очков.
Он стоял поодаль, вытянутый в струнку, и всем существом своим лихорадочно
выжидал мгновения на что-нибудь понадобиться, чтоб лететь исполнять желания
его превосходительства. Но он ни на что не понадобился. Молча обошел
генерал казармы, заглянул на кухню, кажется, попробовал щей. Ему указали
меня: так и так, дескать, из дворян.
конечно, были ослеплены и озадачены, но все-таки остались в некотором
недоумении. Ни о какой претензии на майора, разумеется, не могло быть и
речи. Да и майор был совершенно в этом уверен еще заранее.
арестантов гораздо приятнее высокого посещения. В остроге у нас полагалась
лошадь для привоза воды, для вывоза нечистот и проч. Для ухода определялся
к ней арестант. Он же с ней и ездил, разумеется под конвоем. Работы нашему
коню было очень достаточно и утром и вечером. Гнедко служил у нас уже очень
давно. Лошадка была добрая, но поизносившаяся. В одно прекрасное утро,
перед самым Петровым днем, Гнедко, привезя вечернюю бочку, упал и издох в
несколько минут. О нем пожалели, все собрались кругом, толковали, спорили.
Бывшие у нас отставные кавалеристы, цыганы, ветеринары и проч. выказали при
этом даже много особенных познаний по лошадиной части, даже поругались
между собою, но Гнедка не воскресили. Он лежал мертвый, со вздутым брюхом,
в которое все считали обязанностью потыкать пальцем; доложили майору о
приключившейся воле божией, и он решил, чтоб немедленно была куплена новая
лошадь. В самый Петров день, поутру, после обедни, когда все у нас были в
полном сборе, стали приводить продажных лошадей. Само собою разумеется, что
препоручить покупку следовало самим арестантам. У нас были настоящие
знатоки, и надуть двести пятьдесят человек, только этим прежде и
занимавшихся, было трудно. Являлись киргизы, барышники, цыгане, мещане.
Арестанты с нетерпением ждали появления каждого нового коня. Они были
веселы, как дети. Всего более им льстило, что вот и они, точно вольные,
точно действительно из своего кармана покупают себе лошадь и имеют полное
право купить. Три коня было приведено и уведено, пока покончили дело на
четвертом. Входившие барышники с некоторым изумлением и как бы с робостью
осматривались кругом и даже изредка оглядывались на конвойных, вводивших
их. Двухсотенная ватага такого народу, бритая, проклейменная, в цепях и у
себя дома, в своем каторжном гнезде, за порог которого никто не
переступает, внушала к себе своего рода уважение. Наши же истощались в
разных хитростях при испытании каждого приводимого коня. Куда-куда они ему
ни заглядывали, чего у него ни ощупали и вдобавок с таким деловым, с таким
серьезным и хлопотливым видом, как будто от этого зависело главное
благосостояние острога. Черкесы так даже вскакивали на лошадь верхом; у них
глаза разгорались, и бегло болтали они на своем непонятном наречии, скаля
свои белые зубы и кивая своими смуглыми горбоносыми лицами. Иной из русских
так и прикуется всем вниманием к их спору, точно в глаза к ним вскочить
хочет. Слов-то не понимает, так хочет хоть по выражению глаз догадаться,
как решили: годится ли конь или нет? И даже странным показалось бы такое
судорожное внимание иному постороннему наблюдателю. О чем бы, кажется, тут
так особенно хлопотать иному арестанту, и арестанту-то какому-нибудь так
себе, смиренному, забитому, который даже перед иным из своих же арестантов
пикнуть не смеет! Точно он сам для себя покупал лошадь, точно и в самом
деле для него не все равно было, какая ни купится. Кроме черкесов, наиболее
отличались бывшие цыгане и барышники: им уступали и первое место и первое
слово. Тут даже произошел некоторого рода благородный поединок, особенно
между двумя - арестантом Куликовым, прежним цыганом, конокрадом и
барышником, и самоучкой-ветеринаром, хитрым сибирским мужичком, недавно
пришедшим в острог и уже успевшим отбить у Куликова всю его городскую
практику. Дело в том, что наших острожных самоучек-ветеринаров весьма
ценили во всем городе, и не только мещане или купцы, но даже самые высшие
чины обращались в острог, когда у них заболевали лошади, несмотря на бывших
в городе нескольких настоящих ветеринарных врачей. Куликов до прибытия
Елкина, сибирского мужичка, не знал себе соперника, имел большую практику
и, разумеется, получал денежную благодарность. Он сильно цыганил и
шарлатанил и знал гораздо менее, чем выказывал. По доходам он был
аристократ между нашими. По бывалости, по уму, по смелости и решимости он
уже давно внушал к себе невольное уважение всем арестантам в остроге. Его у
нас слушали и слушались. Но говорил он мало: говорил, как рублем дарил, и
все только в самых важных случаях. Был он решительный фат, но было в нем
много действительной, неподдельной энергии. Он был уже в летах, но очень
красив, очень умен. С нами, дворянами, обходился как-то утонченно вежливо и
вместе с тем с необыкновенным достоинством. Я думаю, если б нарядить его и
привезть под видом какого-нибудь графа в какой-нибудь столичный клуб, то он
бы и тут нашелся, сыграл бы в вист, отлично бы поговорил, немного, но с
весом, и в целый вечер, может быть, не раскусили бы, что он не граф, а
бродяга. Я говорю серьезно: так он был умен, сметлив и быстр на
соображение. К тому же манеры его были прекрасные, щегольские. Должно быть,
он видал в своей жизни виды. Впрочем, прошедшее его было покрыто мраком
неизвестности. Жил он у нас в особом отделении. Но с прибытием Елкина, хоть
и мужика, но зато хитрейшего мужика, лет пятидесяти, из раскольников,
ветеринарная слава Куликова затмилась. В какие-нибудь два месяца он отбил у
него почти всю его городскую практику. Он вылечивал, и очень легко, таких
лошадей, от которых Куликов еще прежде давно отказался. Он даже вылечивал
таких, от которых отказывались городские ветеринарные лекаря. Этот мужичок
пришел вместе с другими за фальщивую монету. Надо было ему ввязаться, на
старости лет, в такое дело компаньоном! Сам же он, смеясь над собой,
рассказывал у нас, что из трех настоящих золотых у них вышел всего только
один фальшивый. Куликов был несколько оскорблен его ветеринарными успехами,
даже слава его между арестантами начала было меркнуть. Он держал любовницу
в форштадте, ходил в плисовой поддевке, носил серебряное кольцо, серьгу и
собственные сапоги с оторочкой, и вдруг, за неимением доходов, он принужден
был сделаться целовальником, и потому все ждали, что теперь при покупке
Гнедка враги, чего доброго, пожалуй, еще подерутся. Ждали с любопытством. У
каждого из них была своя партия. Передовые из обеих партий уже начинали
волноваться и помаленьку уже перекидывались ругательствами. Сам Елкин уже
съежил было свое хитрое лицо в самую саркастическую улыбку. Но оказалось не
то: Куликов и не подумал ругаться, но и без ругани поступил мастерски. Он
начал с уступки, даже с уважением выслушал критические мнения своего
соперника, но, поймав его на одном слове, скромно и настойчиво заметил ему,
что он ошибается, и, прежде чем Елкин успел опомниться и оговориться,
доказал, что ошибается он вот именно в том-то и в том-то. Одним словом,
Елкин был сбит чрезвычайно неожиданно и искусно, и хоть верх все-таки
остался за ним, но и куликовская партия осталась довольна.
говорили одни.
Обе партии заговорили вдруг в чрезвычайно уступчивом тоне.
Куликов не сробеет.





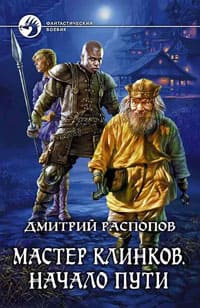
 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Корнев Павел
Корнев Павел Флинт Эрик
Флинт Эрик Акунин Борис
Акунин Борис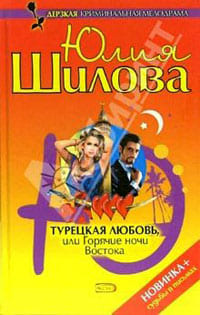 Шилова Юлия
Шилова Юлия Лукин Евгений
Лукин Евгений