полицию, а я присягу приму! Одного только понять не могу: для чего он
рискнул на такой низкий поступок! О жалкий, подлый человек!
надо, сам присягу приму! - твердым голосом произнес, наконец, Раскольников
и выступил вперед.
только взгляде на него, что он действительно знает, в чем дело, и что дошло
до развязки.
обращаясь прямо к Лебезятникову. - С самого начала истории я уже стал
подозревать, что тут какой-то мерзкий подвох; я стал подозревать вследствие
некоторых особых обстоятельств, только мне одному известных, которые я
сейчас и объясню всем: в них все дело! Вы же, Андрей Семенович, вашим
драгоценным показанием окончательно уяснили мне все. Прошу всех, всех
прислушать: этот господин (он указал на Лужина) сватался недавно к одной
девице, и именно к моей сестре, Авдотье Романовне Раскольниковой. Но,
приехав в Петербург, он, третьего дня, при первом нашем свидании, со мной
поссорился, и я выгнал его от себя, чему есть два свидетеля. Этот человек
очень зол... Третьего дня я еще и не знал, что он здесь стоит в нумерах, у
вас, Андрей Семенович, и что, стало быть, в тот же самый день, как мы
поссорились, то есть третьего же дня, он был свидетелем того, как я
передал, в качестве приятеля покойного господина Мармеладова, супруге его
Катерине Ивановне несколько денег на похороны. Он тотчас же написал моей
матери записку и уведомил ее, что я отдал все деньги не Катерине Ивановне,
а Софье Семеновне, и при этом в самых подлых выражениях упомянул о... о
характере Софьи Семеновны, то есть намекнул на характер отношений моих к
Софье Семеновне. Все это, как вы понимаете, с целью поссорить меня с
матерью и сестрой, внушив им, что я расточаю, с неблагородными целями, их
последние деньги, которыми они мне помогают. Вчера вечером, при матери и
сестре, и в его присутствии, я восстановил истину, доказав, что передал
деньги Катерине Ивановне на похороны, а не Софье Семеновне, и что с Софьей
Семеновной третьего дня я еще и знаком даже не был и даже в лицо еще ее не
видал. При этом я прибавил, что он, Петр Петрович Лужин, со всеми своими
достоинствами, не стоит одного мизинца Софьи Семеновны, о которой он так
дурно отзывается. На его вопрос: посадил ли бы я Софью Семеновну рядом с
моей сестрой? - я ответил, что я уже это и сделал, того же дня.
Разозлившись на то, что мать и сестра не хотят, по его наветам, со мною
рассориться, он, слово за слово, начал говорить им непростительные
дерзости. Произошел окончательный разрыв, и его выгнали из дому. Все это
происходило вчера вечером. Теперь прошу особенного внимания: представьте
себе, что если б ему удалось теперь доказать, что Софья Семеновна -
воровка, то, во-первых, он доказал бы моей сестре и матери, что был почти
прав в своих подозрениях; что он справедливо рассердился за то, что я
поставил на одну доску мою сестру и Софью Семеновну; что, нападая на меня,
он защищал, стало быть, и предохранял честь моей сестры, а своей невесты.
Одним словом, через все это он даже мог вновь поссорить меня с родными и,
уж конечно, надеялся опять войти у них в милость. Не говорю уже о том, что
он мстил лично мне, потому что имеет основание предполагать, что честь и
счастие Софьи Семеновны очень для меня дороги. Вот весь его расчет! Вот как
я понимаю это дело! Вот вся причина, и другой быть не может!
восклицаниями публики, слушавшей, впрочем, очень внимательно. Но, несмотря
на все перерывы, он проговорил резко, спокойно, точно, ясно, твердо. Его
резкий голос, его убежденный тон и строгое лицо произвели на всех
чрезвычайный эффект.
должно быть так, потому что он именно спрашивал меня, как только вошла к
нам в комнату Софья Семеновна, "тут ли вы? Не видал ли я вас в числе гостей
Катерины Ивановны?" Он отозвал меня для этого к окну и там потихоньку
спросил. Стало быть, ему непременно надо было, чтобы тут были вы! Это так,
это все так!
Казалось, что он обдумывал, как бы ему вывернуться. Может быть, он бы с
удовольствием бросил все и ушел, но в настоящую минуту это было почти
невозможно; это значило прямо сознаться в справедливости взводимых на него
обвинений и в том, что он действительно оклеветал Софью Семеновну. К тому
же и публика, и без того уже подпившая, слишком волновалась. Провиантский,
хотя, впрочем, и не все понимавший, кричал больше всех и предлагал
некоторые весьма неприятные для Лужина меры. Но были и не пьяные; сошлись и
собрались изо всех комнат. Все три полячка' ужасно горячились и кричали ему
беспрестанно: "пане лайдак!", причем бормотали еще какие-то угрозы
по-польски. Соня слушала с напряжением, но как будто тоже не все понимала,
точно просыпалась от обморока. Она только не спускала своих глаз с
Раскольникова, чувствуя, что в нем вся ее защита. Катерина Ивановна трудно
и хрипло дышала и была, казалось, в страшном изнеможении. Всех глупее
стояла Амалия Ивановна, разинув рот и ровно ничего не смысля. Она только
видела, что Петр Петрович как-то попался. Раскольников попросил было опять
говорить, но ему уже не дали докончить: все кричали и теснились около
Лужина с ругательствами и угрозами. Но Петр Петрович не струсил. Видя, что
уже дело по обвинению Сони вполне проиграно, он прямо прибегнул к наглости.
он, пробираясь сквозь толпу, - и сделайте одолжение, не угрожайте; уверяю
вас, что ничего не будет, ничего не сделаете, не робкого десятка-с, а
напротив, вы же, господа, ответите, что насилием прикрыли уголовное дело.
Воровка более нежели изобличена, и я буду преследовать-с. В суде не так
слепы и... не пьяны-с, и не поверят двум отъявленным безбожникам,
возмутителям и вольнодумцам, обвиняющим меня, из личной мести, в чем сами
они, по глупости своей, сознаются... Да-с, позвольте-с!
съезжать, и все между нами кончено! И как подумаю, что я же из кожи
выбивался, ему излагал... целые две недели!..
когда вы еще меня удерживали; теперь же прибавлю только, что вы дурак-с.
Желаю вам вылечить ваш ум и ваши подслепые глаза. Позвольте же, господа-с!
с одними только ругательствами: он схватил со стола стакан, размахнулся и
пустил его в Петра Петровича; но стакан полетел прямо в Амалию Ивановну.
Она взвизгнула, а провиантский, потеряв от размаху равновесие, тяжело
повалился под стол. Петр Петрович прошел в свою комнату, и через полчаса
его уже не было в доме. Соня, робкая от природы, и прежде знала, что ее
легче погубить, чем кого бы то ни было, а уж обидеть ее всякий мог почти
безнаказанно. Но все-таки, до самой этой минуты, ей казалось, что можно
как-нибудь избегнуть беды - осторожностию, кротостию, покорностию перед
всем и каждым. Разочарование ее было слишком тяжело. Она, конечно, с
терпением и почти безропотно могла все перенести - даже это. Но в первую,
минуту уж слишком тяжело стало. Несмотря на свое торжество и на свое
оправдание, - когда прошел первый испуг и первый столбняк, когда она поняла
и сообразила все ясно, - чувство беспомощности и обиды мучительно стеснило
ей сердце. С ней началась истерика. Наконец, не выдержав, она бросилась вон
из комнаты и побежала домой. Это было почти сейчас по уходе Лужина. Амалия
Ивановна, когда в нее, при громком смехе присутствовавших, попал стакан,
тоже не выдержала в чужом пиру похмелья. С визгом, как бешеная, кинулась
она к Катерине Ивановне, считая ее во всем виноватою:
все, что ни попалось ей под руку из вещей Катерины Ивановны, и скидывать на
пол. Почти и без того убитая, чуть не в обмороке, задыхавшаяся, бледная,
Катерина Ивановна вскочила с постели (на которую упала было в изнеможении)
и бросилась на Амалию Ивановну. Но борьба была слишком неравна; та
отпихнула ее, как перышко.
Как! В день похорон мужа гонят с квартиры, после моего хлеба-соли, на
улицу, с сиротами! Да куда я пойду! - вопила, рыдая и задыхаясь, бедная
женщина. - Господи! - закричала вдруг она, засверкав глазами, - неужели ж
нет справедливости! Кого ж тебе защищать, коль не нас, сирот? А вот,
увидим! Есть на свете суд и правда, есть, я сыщу! Сейчас, подожди,
безбожная тварь! Полечка, оставайся с детьми, я ворочусь. Ждите меня, хоть
на улице! Увидим, есть ли на свете правда?
упоминал в своем рассказе покойный Мармеладов, Катерина Ивановна
протеснилась сквозь беспорядочную и пьяную толпу жильцов, все еще
толпившихся в комнате, и с воплем и со слезами выбежала на улицу - с
неопределенною целью где-то сейчас, немедленно и во что бы то ни стало
найти справедливость. Полечка в страхе забилась с детьми в угол на сундук,
где, обняв обоих маленьких, вся дрожа, стала ожидать прихода матери. Амалия
Ивановна металась по комнате, визжала, причитала, швыряла все, что ни
попадалось ей, на пол и буянила. Жильцы горланили кто в лес, кто по дрова -
иные договаривали, что умели, о случившемся событии; другие ссорились и


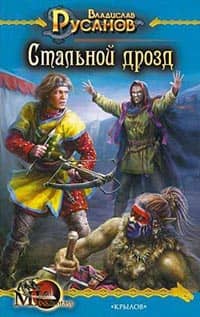



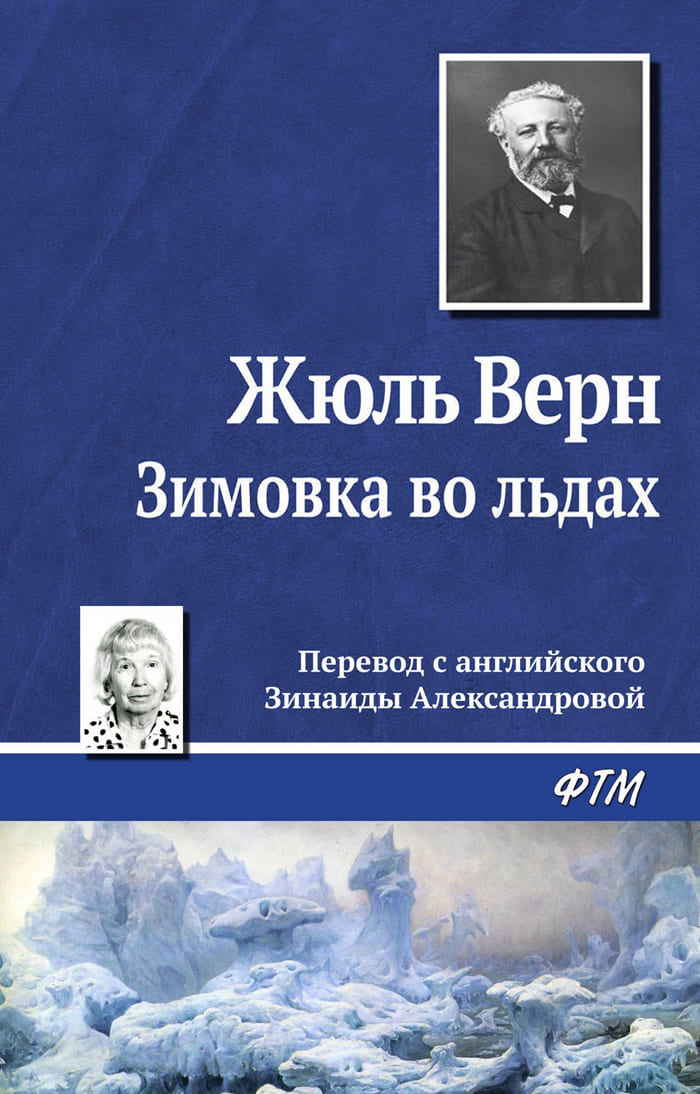 Жюль Верн
Жюль Верн Прозоров Александр
Прозоров Александр Шилова Юлия
Шилова Юлия Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Каменистый Артем
Каменистый Артем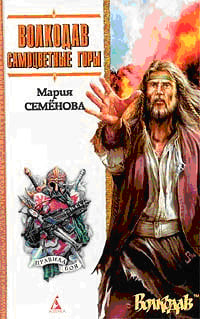 Семенова Мария
Семенова Мария