вот, Марфа Петровна, вот бы теперь вам и пожаловать, и темно, и место
пригодное, и минута оригинальная. А ведь вот именно теперь-то и не
придете..."
замысла над Дунечкой, он рекомендовал Раскольникову поручить ее охранению
Разумихина. "В самом деле, я, пожалуй, пуще для своего собственного задора
тогда это говорил, как и угадал Раскольников. А шельма, однако ж, этот
Раскольников! Много на себе перетащил. Большою шельмой может быть со
временем, когда вздор повыскочит, а теперь слишком уж жить ему хочется!
Насчет этого пункта этот народ - подлецы. Ну да черт с ним, как хочет, мне
что".
пред ним, и вдруг дрожь прошла по его телу. "Нет, это уж надо теперь
бросить, - подумал он, очнувшись, - надо о чем-нибудь другом думать.
Странно и смешно: ни к кому я никогда не имел большой ненависти, даже
мстить никогда особенно не желал, а ведь это дурной признак, дурной
признак! Спорить тоже не любил и не горячился - тоже дурной признак! А
сколько я ей давеча наобещал - фу, черт! А ведь, пожалуй, и перемолола бы
меня как-нибудь..." Он опять замолчал и стиснул зубы: опять образ Дунечки
появился пред ним точь-в-точь, как была она, когда, выстрелив в первый раз,
ужасно испугалась, опустила револьвер и, помертвев, смотрела на него, так
что он два раза успел бы схватить ее, а она и руки бы не подняла в защиту,
если б он сам ей не напомнил. Он вспомнил, как ему в то мгновение точно
жалко стало ее, как бы сердце сдавило ему... "Э! К черту! Опять эти мысли,
все это надо бросить, бросить!.."
пробежало под одеялом по руке его и по ноге. Он вздрогнул: "Фу, черт, да
это чуть ли не мышь! - подумал он, - это я телятину оставил на столе..."
Ему ужасно не хотелось раскрываться, вставать, мерзнуть, но вдруг опять
что-то неприятно шоркнуло ему по ноге; он сорвал с себя одеяло и зажег
свечу. Дрожа от лихорадочного холода, нагнулся он осмотреть постель -
ничего не было; он встряхнул одеяло, и вдруг на простыню выскочила мышь. Он
бросился ловить ее; но мышь не сбегала с постели, а мелькала зигзагами во
все стороны, скользила из-под его пальцев, перебегала по руке и вдруг
юркнула под подушку; он сбросил подушку, но в одно мгновение почувствовал,
как что-то вскочило ему за пазуху, шоркает по телу, и уже за спиной, под
рубашкой. Он нервно задрожал и проснулся. В комнате было темно, он лежал на
кровати, закутавшись, как давеча, в одеяло, под окном выл ветер. "Экая
скверность!" - подумал он с досадой.
спать", - решился он. От окна было, впрочем, холодно и сыро; не вставая с
места, он натащил на себя одеяло и закутался в него. Свечи он не зажигал.
Он ни о чем не думал, да и не хотел думать; но грезы вставали одна за
другою, мелькали отрывки мыслей, без начала и конца и без связи. Как будто
он впадал в полудремоту. Холод ли, мрак ли, сырость ли, ветер ли,
завывавший под окном и качавший деревья, вызвали в нем какую-то упорную
фантастическую наклонность и желание, - но ему все стали представляться
цветы. Ему вообразился прелестный пейзаж; светлый, теплый, почти жаркий
день, праздничный день, Троицын день. Богатый, роскошный деревенский
коттедж, в английском вкусе, весь обросший душистыми клумбами цветов,
обсаженный грядами, идущими кругом всего дома; крыльцо, увитое вьющимися
растениями, заставленное грядами роз; светлая, прохладная лестница,
устланная роскошным ковром, обставленная редкими цветами в китайских
банках. Он особенно заметил в банках с водой, на окнах, букеты белых и
нежных нарцизов, склоняющийся на своих ярко-зеленых, тучных и длинных
стеблях с сильным ароматным запахом. Ему даже отойти от них не хотелось, но
он поднялся по лестнице и вошел в большую, высокую залу, и опять и тут
везде, у окон, около растворенных дверей на террасу, на самой террасе,
везде были цветы. Полы были усыпаны свежею накошенною душистою травой, окна
были отворены, свежий, легкий, прохладный воздух проникал в комнату, птички
чирикали под окнами, а посреди залы, на покрытых белыми атласными пеленами
столах, стоял гроб. Этот гроб был обит белым граденаплем и обшит белым
густым рюшем. Гирлянды цветов обвивали его со всех сторон. Вся в цветах
лежала в нем девочка, в белом тюлевом платье, со сложенными и прижатыми на
груди, точно выточенными из мрамора, руками. Но распущенные волосы ее,
волосы светлой блондинки, были мокры; венок из роз обвивал ее голову.
Строгий и уже окостенелый профиль ее лица был тоже как бы выточен из
мрамора, но улыбка на бледных губах ее была полна какой-то недетской,
беспредельной скорби и великой жалобы. Свидригайлов знал эту девочку; ни
образа, ни зажженных свечей не было у этого гроба и не слышно было молитв.
Эта девочка была самоубийца - утопленница. Ей было только четырнадцать лет,
но это было уже разбитое сердце, и оно погубило себя, оскорбленное обидой,
ужаснувшею и удивившею это молодое, детское сознание, залившею
незаслуженным стыдом ее ангельски чистую душу и вырвавшею последний крик
отчаяния, не услышанный, а нагло поруганный в темную ночь, во мраке, в
холоде, в сырую оттепель, когда выл ветер...
задвижку и отворил окно. Ветер хлынул неистово в его тесную каморку и как
бы морозным инеем облепил ему лицо и прикрытую одною рубашкой грудь. Под
окном, должно быть, действительно было что-то вроде сада и, кажется, тоже
увеселительного; вероятно, днем здесь тоже певали песенники и выносился на
столики чай. Теперь же с деревьев и кустов летели в окно брызги, было
темно, как в погребе, так что едва-едва можно было различить только
какие-то темные пятна, обозначавшие предметы. Свидригайлов, нагнувшись и
опираясь локтями на подоконник, смотрел уже минут пять, не отрываясь в эту
мглу. Среди мрака и ночи раздался пушечный выстрел, за ним другой.
пониже место, на улицы, зальет подвалы и погреба, всплывут подвальные
крысы, и среди дождя и ветра люди начнут, ругаясь, мокрые, перетаскивать
свой сор в верхние этажи... А который-то теперь час?" И только что подумал
он это, где-то близко, тикая и как бы торопясь изо всей мочи, стенные часы
пробили три. "Эге, да через час уже будет светать" Чего дожидаться? Выйду
сейчас, пойду прямо на Петровский: там где-нибудь выберу большой куст, весь
облитый дождем, так что чуть-чуть плечом задеть и миллионы брызг обдадут
всю голову..." Он отошел от окна, запер его, зажег свечу, натянул на себя
жилетку, пальто, надел шляпу и вышел со свечой в коридор, чтоб отыскать
где-нибудь спавшего в каморке между всяким хламом и свечными огарками
оборванца, расплатиться с ним за нумер и выйти из гостиницы. "Самая лучшая
минута, нельзя лучше и выбрать!"
и хотел уже громко кликнуть, как вдруг в темном углу, между старым шкафом и
дверью, разглядел какой-то странный предмет, что-то будто бы живое. Он
нагнулся со свечой и увидел ребенка - девочку лет пяти, не более, в
измокшем, как поломойная тряпка, платьишке, дрожавшую и плакавшую. Она как
будто и не испугалась Свидригайлова, но смотрела на него с тупым удивлением
своими большими черными глазенками и изредка всхлипывала, как дети, которые
долго плакали, но уже перестали и даже утешились, а между тем, нет-нет, и
вдруг опять всхлипнут. Личико девочки было бледное и изнуренное; она
окостенела от холода, но "как же она попала сюда? Значит, она здесь
спряталась и не спала всю ночь". Он стал ее расспрашивать. Девочка вдруг
оживилась и быстро-быстро залепетала ему что-то на своем детском языке. Тут
было что-то про "мамасю" и что "мамася" плибьет", про какую-то чашку,
которую "лязбиля" (разбила). Девочка говорила не умолкая; кое-как можно
было угадать из всех этих рассказов, что это нелюбимый ребенок, которого
мать, какая-нибудь вечно пьяная кухарка, вероятно из здешней же гостиницы,
заколотила и запугала; что девочка разбила мамашину чашку и что до того
испугалась, что сбежала еще с вечера; долго, вероятно, скрывалась
где-нибудь на дворе, под дождем, наконец пробралась сюда, спряталась за
шкафом и просидела здесь в углу всю ночь, плача, дрожа от сырости, от
темноты и от страха, что ее теперь больно за все это прибьют. Он взял ее на
руки, пошел к себе в нумер, посадил на кровать и стал раздевать. Дырявые
башмачонки ее, на босу ногу, были так мокры, как будто всю ночь пролежали в
луже. Раздев, он положил ее на постель, накрыл и закутал совсем с головой в
одеяло. Она тотчас заснула. Кончив все, он опять угрюмо задумался.
ощущением. - Какой вздор!" В досаде взял он свечу, чтоб идти и отыскать во
что бы то ни стало оборванца и поскорее уйти отсюда. "Эх, девчонка!" -
подумал он с проклятием, уже растворяя дверь, но вернулся еще раз
посмотреть на девочку, спит ли она и как она спит? Он осторожно приподнял
одеяло. Девочка спала крепким и блаженным сном. Она согрелась под одеялом,
и краска уже разлилась по ее бледным щечкам. Но странно: эта краска
обозначалась как бы ярче и сильнее, чем мог быть обыкновенный детский
румянец. "Это лихорадочный румянец", - подумал Свидригайлов, это - точно
румянец от вина, точно как будто ей дали выпить целый стакан. Алые губки
точно горят, пышут; но что это? Ему вдруг показалось, что длинные черные
ресницы ее как будто вздрагивают и мигают, как бы приподнимаются, и из-под
них выглядывает лукавый, острый, какой-то недетски-подмигивающий глазок,
точно девочка не спит и притворяется. Да, так и есть: ее губки раздвигаются
в улыбку; кончики губок вздрагивают, как бы еще сдерживаясь. Но вот уже она
совсем перестала сдерживаться; это уже смех, явный смех; что-то нахальное,
вызывающее светится в этом совсем не детском лице; это разврат, это лицо
камелии, нахальное лицо продажной камелии из француженок. Вот, уже совсем






 Посняков Андрей
Посняков Андрей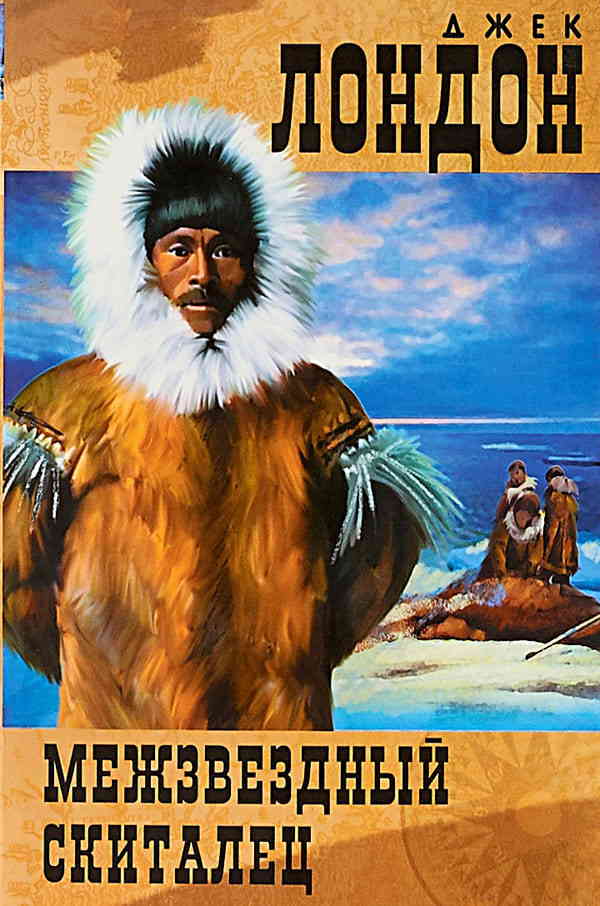 Лондон Джек
Лондон Джек Перумов Ник
Перумов Ник Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк Шилова Юлия
Шилова Юлия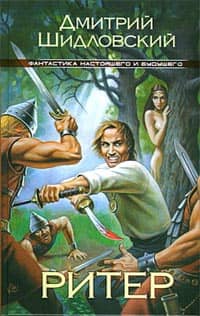 Шидловский Дмитрий
Шидловский Дмитрий