уносит с собой ужасное оскорбление.
головой.
- Да оставите ли вы меня наконец, мучители! Я вас не боюсь! Я никого,
никого теперь не боюсь! Прочь от меня! Я один хочу быть, один, один, один!
побежал догонять его.
уже на лестнице. - Раздражать невозможно...
Давеча он был в силах... Знаешь, у него что-то есть на уме! Что-то
неподвижное, тяготящее... Этого я очень боюсь; непременно!
видно, что он женится на его сестре и что Родя об этом, перед самой
болезнью, письмо получил...
заметил ты, что он ко всему равнодушен, на все отмалчивается, кроме одного
пункта, от которого из себя выходит: это убийство...
пугается. Это его в самый день болезни напугали, в конторе у надзирателя; в
обморок упал.
Интересует он меня, очень! Через полчаса зайду наведаться... Воспаления,
впрочем, не будет...
через Настасью...
Настасью; но та еще медлила уходить.
принесенный давеча Разумихиным и им же снова завязанный узел с платьем и
стал одеваться. Странное дело: казалось, он вдруг стал совершенно спокоен;
не было ни полоумного бреду, как давеча, ни панического страху, как во все
последнее время. Это была первая минута какого-то странного, внезапного
спокойствия. Движения его были точны и ясны, в них проглядывало твердое
намерение. "Сегодня же, сегодня же!.." - бормотал он про себя. Он понимал,
однако, что еще слаб, но сильнейшее душевное напряжение, дошедшее до
спокойствия, до неподвижной идеи, придавало ему сил и самоуверенности; он,
впрочем, надеялся, что не упадет на улице. Одевшись совсем, во все новое,
он взглянул на деньги, лежавшие на столе, подумал и положил их в карман.
Денег было двадцать пять рублей. Взял тоже и все медные пятаки, сдачу с
десяти рублей, истраченных Разумихиным на платье. Затем тихо снял крючок,
вышел из комнаты, спустился по лестнице и заглянул в отворенную настежь
кухню: Настасья стояла к нему задом и, нагнувшись, раздувала хозяйский
самовар. Она ничего не слыхала. Да и кто мог предположить, что он уйдет?
Через минуту он был уже на улице.
жадностью дохнул он этого вонючего, пыльного, зараженного городом воздуха.
Голова его слегка было начала кружиться; какая-то дикая энергия заблистала
вдруг в его воспаленных глазах и в его исхудалом бледно-желтом лице. Он не
знал, да и не думал о том, куда идти; он знал одно: "что все это надо
кончить сегодня же, за один раз, сейчас же; что домой он иначе не
воротится, потому что не хочет так жить". Как кончить? Чем кончить? Об этом
он не имел и понятия, да и думать не хотел. Он отгонял мысль: мысль терзала
его. Он только чувствовал и знал, что надо, чтобы все переменилось, так или
этак, "хоть как бы то ни было", повторял он с отчаянною, неподвижною
самоуверенностью и решимостью.
прямо направился на Сенную. Не доходя Сенной, на мостовой, перед мелочною
лавкой, стоял молодой черноволосый шарманщик и вертел какой-то весьма
чувствительный романс. Он аккомпанировал стоявшей впереди его на тротуаре
девушке, лет пятнадцати, одетой как барышня, в кринолине, в мантильке, в
перчатках и в соломенной шляпке с огненного цвета пером; все это было
старое и истасканное. Уличным, дребезжащим, но довольно приятным и сильным
голосом она выпевала романс, в ожидании двухкопеечника из лавочки.
Раскольников приостановился рядом с двумя-тремя слушателями, послушал,
вынул пятак и положил в руку девушке. Та вдруг пресекла пение на самой
чувствительной и высокой нотке, точно отрезала, резко крикнула шарманщику:
"будет!", и оба поплелись дальше, к следующей лавочке.
уже немолодому, прохожему, стоявшему рядом с ним у шарманки и имевшему вид
фланера. Тот дико посмотрел и удивился. - Я люблю, - продолжал
Раскольников, но с таким видом, как будто вовсе не об уличном пении
говорил, - я люблю, как поют под шарманку в холодный, темный и сырой
осенний вечер, непременно в сырой, когда у всех прохожих бледно-зеленые и
больные лица; или, еще лучше, когда снег мокрый падает, совсем прямо, без
ветру, знаете? а сквозь него фонари с газом блистают...
вопросом, и странным видом Раскольникова, и перешел на другую сторону
улицы.
мещанин и баба, разговаривавшие тогда с Лизаветой; но теперь их не было.
Узнав место, он остановился, огляделся и оборотился к молодому парню в
красной рубахе, зевавшему у входа в мучной лабаз.
дома сидел, так и не знаю-с... Уж простите, ваше сиятельство, великодушно.
народа, все мужиков. Он залез в самую густоту, заглядывая в лица. Его
почему-то тянуло со всеми заговаривать. Но мужики не обращали внимания на
него, и все что-то галдели про себя, сбиваясь кучками. Он постоял, подумал
и пошел направо, тротуаром, по направлению к В-му. Миновав площадь, он
попал в переулок...
ведущим с площади в Садовую. В последнее время его даже тянуло шляться по
всем этим местам, когда тошно становилось, "чтоб еще тошней было". Теперь
же он вошел, ни о чем не думая. Тут есть большой дом, весь под распивочными
и прочими съестно-выпивательными заведениями; из них поминутно выбегали
женщины, одетые, как ходят "по соседству" - простоволосые и в одних
платьях. В двух-трех местах они толпились на тротуаре группами,
преимущественно у сходов в нижний этаж, куда, по двум ступенькам, можно






 Посняков Андрей
Посняков Андрей Куликов Роман
Куликов Роман Трубников Александр
Трубников Александр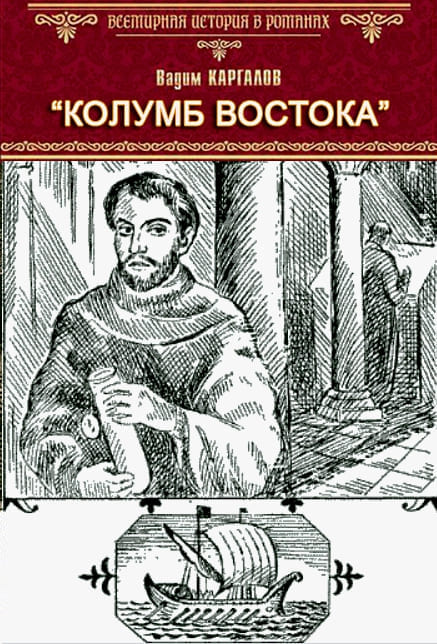 Каргалов Вадим
Каргалов Вадим Прозоров Александр
Прозоров Александр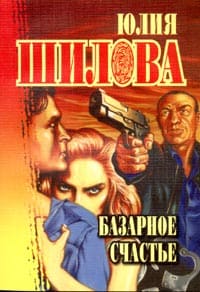 Шилова Юлия
Шилова Юлия