Александр Куприн.
Колесо времени
спокойнее, если с запасом.
только отбивает привкус серы. Смотри, не обижайся. Подметил я
твой моментальный взгляд, искоса. Знаю, у тебя мелькнула мысль
про меня: "Не опустился ли?" Нет, дружище: я человек не
опустившийся, а так сказать, опустошенный. Опустела душа, и
остался от меня один только телесный чехол. Живу по
непреложному закону инерции. Есть дело, есть деньги. Здоров, по
утрам читаю газеты и пью кофе, все в порядке. Вино вкушаю лишь
при случае, в компании, хотя сама компания меня ничуть не
веселит. Но душа отлетела. Созерцаю течение дней равнодушно,
как давно знакомую фильму.
бытии. Господи! что ни поворот судьбы, то целая эпопея.
Какая-то дикая и страшная смесь мрачной трагедии с похабным
водевилем, высоты человеческого духа со смрадной, мерзкой
клоакой. Ты говорил, а я думал: "Ну и крепкая же машинища
человеческий организм!" А все-таки ты жив. Жив великой тоской
по родине... жив блаженной верой в возвращение домой, в
воскресающую Россию. Мои испытания, в сравнении с твоими,--
киндершпиль, детская игра... Но в них есть кое-что
занимательное для тебя, а меня тянет хоть один раз выплеснуться
перед кем-нибудь стоящим. Трудно человеку молчать пять лет
подряд. Так слушай.
состоит только из трех букв "Она"? Но здесь будет и о моей
глупости, о том, как иногда, сдуру, в одну минуту теряет
человек большое счастье для того, чтобы потом всю жизнь
каяться... Ах! не повернешь...
последние экзамены в Институте гражданских инженеров, а тут
подоспела война, и взяли меня в саперы. А когда набирались
вспомогательные войска во Францию, то и я потянул свой жребий,
будучи уже поручиком-инженером. Во Франции я был свидетелем
всего: и энтузиазма, с которым встречались наши войска, и
нашего русского героизма, а потом, увы, пошли митинги,
разложение...
на бетонном заводе. Начал простым рабочим. Потом стал
контрмэтром, потом -- шефом экипа и начальником главного цеха.
Много нас, русских, служило вместе, все бывшие люди различных
классов. Жили дружно... Ютились в бараках, сами их застеклили,
сами поставили печи, сами устлали полы матами. У меня был
отдельный павильончик, в две комнаты с кухонкой, и большая, под
парусинным тентом терраса. Питались из общего котла бараньим
рагу, эскарго, мулями, макаронами с томатами. Никто никому не
завидовал. Да, что я тебе скажу! надумали мы всей русской
артелью взбодрить, на паях, свое собственное дело: завод
марсельской черепицы. Рассчитали -- предприятие толковое... Но
вот тут-то и случился со мною этот перевертон. Хотя, кто знает,
может быть, я и вернусь когда-нибудь к этому черепичному делу?
праздничные, когда время тянется бесконечно долго и не знаешь,
куда его девать. Природа такая: огромная выжженная солнцем
плешина, кругом вышки элеваторов, а вдали мотаются жиденькие,
потрепанные акации и далеко-далеко синяя полоска моря -- вот и
весь пейзаж.
закатиться в славный город Марсель, благо по ветке езды всего
полтора часа... И компания у нас своя подобралась: я -- бывший
инженер, затем -- бывший гвардейский полковник, бывший
геодезист да бывший императорский певец, он же бывший баритон.
Компания невелика, але бардзо почтива2, как говорят поляки.
и гордость марсельцев, улицу Каннобьер, и Курс-Пьер-де-Пуже,
эту сводчатую темнолиственную аллею платанов, и собор
Владычицы, спасительницы на водах, и узкие, в размах
человеческих рук, старинные четырехэтажные улицы, и марсельские
кабачки, а также пылкость, фамильярность и добродушие простого
народа. Никогда оттуда не уеду, там и помру. Впрочем, ты сейчас
увидишь, что для такой собачьей привязанности есть у меня и
другая причина, более глубокая и больная.
-- как раз 8 ноября, в день моего ангела, архистратига Михаила,
зашабашили мы, по английской моде, в полдень. Принарядились,
как могли, и поехали в Марсель. День был хмурый, ветреный.
Море, бледно-малахитовое, с грязно-желтой пеной на гребнях,
бурлило в гавани и плескало через парапет набережной.
этим самым буйабезом, после которого чувствуешь себя так, будто
у тебя и в глотке и в животе взорвало динамит. Пошлялись по
кривым тесным уличкам старого города с заходами для освежения,
посетили выставку огромных, слоноподобных серых кротких
першеронов и в сумерки разбрелись, уговорившись завтра утром
сойтись на старой пристани, чтобы пойти вместе на дневной
спектакль: афиши обещали "Риголетто" с Тито Руффо.
той же гостинице, на другом краю города, в новом порту.
Называлась она просто "Отель дю Порт". Это -- мрачное, узкое,
страшно высокое здание с каменными винтовыми лестницами,
ступени которых угнулись посередине, стоптанные миллионами ног.
Там, на самом верху, была низкая, но очень просторная, комната.
Она мне нравилась. Окна в ней были круглые, как пароходные
иллюминаторы. Пол покрывал настоящий персидский ковер
превосходного рисунка, но измызганный подошвами до нитей, до
основы, до дыр. На стенах висели в потемневших облупившихся
золоченых рамах старинные гравюры из морской жизни. Эту комнату
по субботам оставляли в моем распоряжении.
нам, русским, а в особенности ярославцам, как я?
человек. Марселец родом и бывший моряк, весь в морщинах, с
ясным взором и спокойной душой. Хозяйка Аллегрия, в
противоположность своему флегматичному мужу, была подвижная
испанка, сильно располневшая, но еще не потерявшая тяжелой,
горячей южной красоты. Это она была настоящей самодержавной
правительницей дома, а прислуживал во всех семи этажах и внизу,
в ресторане, некто Анри, с виду настоящий наемный убийца, а по
характеру самый веселый, проворный и услужливый малый во всей
Марсели. Куда этому чернокудрому красавцу! Гарсон, еще один
гренадин с белым!
столик в углу, заказал себе кое-что и в ожидании спокойно
сидел, думая о различных случайных пустяках и лениво оглядывая
публику. Ресторан этот, на редкость для невзрачной части
города, просторный и светлый, не только опрятно, но даже
кокетливо содержимый. Мы с тобой сходим туда когда-нибудь, если
будем в Марсели. Двери выходили на гавань, и от нее доносились
вздохи и всплески волн и запах моря.
бурнусах, перекинутых через плечо живописными складками: фески
красные, черные и вишневые; зеленые и белые тюрбаны, чалмы,
плетенные из маисовой соломы, итальянские колпаки, маленькие,
полуголые, похожие на обезьян моряки, черные и блестящие, как
вакса, с курчавыми, взбитыми, подобно войлоку, волосами;
матросы разных стран, сидящие отдельными кучками и крепко
стучащие стаканами о столы, пестрый скачущий гомон разноцветных
слов, и откуда-то -- лень поглядеть откуда -- вкрадчивые звуки
гитары, сопровождающие сладкий тенор, поющий итальянскую
песенку о том, как три барабанщика возвращались с войны, и у
одного барабанщика был букет роз, а дочь короля, сидевшая у
окошка, попросила: "Послушай, барабанщик, дал бы ты мне эти
розы..." -- "Дам тебе розы, если выйдешь за меня". А она
отвечает; "Послушай-ка, барабанщик, пойди и спроси моего
отца".-- "Senti Sor Prel"3.
шоколадные, не то оливково-зеленого цвета, все, как на подбор,
маленькие и сухие, но точно сделанные из стали, выпили лишнее,
начали шуметь, перессорились и уже готовились пустить в ход
кривые тонкие ножи. Все они орали одновременно на каком-то
диком гортанном языке, похожем то на клекот хищных птиц, то на
свиное хрюканье, страшно выкатывая желтые белки и скаля друг на




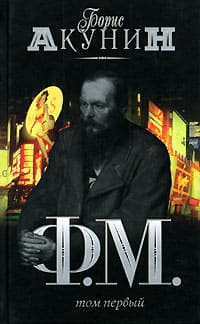

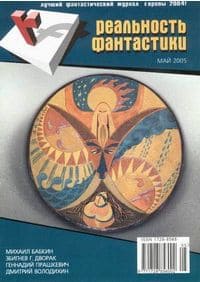 Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Корнев Павел
Корнев Павел Рыбаков Вячеслав
Рыбаков Вячеслав Афанасьев Роман
Афанасьев Роман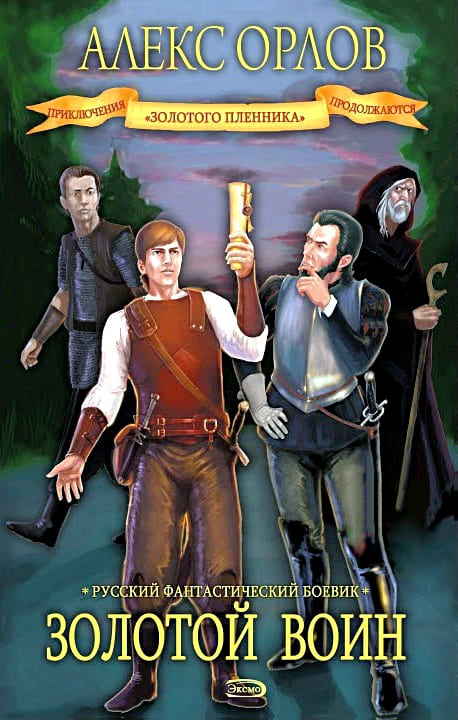 Орлов Алекс
Орлов Алекс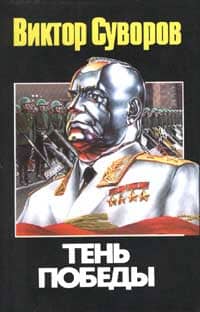 Суворов Виктор
Суворов Виктор