нам совсем невозможно, она вдруг расплакалась, как девочка,
горько и обильно...
путем замысел в дело. Она долго и внимательно расспрашивала
меня о том, какие вещи могут теперь быть самыми необходимыми
для рыбака, и в тот же день был ею отправлен Коле плотный пакет
максимально дозволенного веса. Там были уложены две теплые
морские фуфайки, несколько мотков английского шпагата разной
толщины, малые крючки, чтобы ловить кефаль на самодуру, средние
-- для ловли на перемет камбалы и морского петуха -- и самые
большие для переметов на белугу, а так как оставалось еще
немного пустого места, то его забили шоколадными плитками. Для
отвода глаз посылка пошла как будто бы от американца Джонсона,
которого Коля в 1910 году возил в лодке показывать окрестности
Балаклавы. Девяноста девять шансов было за то, что посылка не
дойдет. Мы надеялись на сотый.
теперь широкими шагами к концу.
должник! Она была очень умна, во всяком случае, гораздо умнее
меня. Но ее ум не стеснял, не подавлял: он был легок,
непринужден и весел, он быстро схватывал в жизни, в людях, в
книгах самое главное, самое характерное и подавал его то в
смешном, то в трогательном виде: злого и глупого он точно не
замечал.
Знаешь ли, какая мысль приходит теперь мне часто в голову?
Думаю я так: инстинкту размножения неизменно подчинено все
живущее, растущее и движущееся в мире, от клеточки до Наполеона
и Юлия Цезаря, но только человеку, этому цвету, перлу и
завершению творения, ниспосылается полностью великий
таинственный дар любви. Но посылается совсем не так уж часто,
как это мы думаем. Случаи самой высокой, самой чистой, самой
преданной любви выдуманы -- увы! -- талантливыми поэтами,
жаждавшими такой любви, но никогда не находившими ее.
всей жизни. Но настоящих философов человечество знает не больше
десяти -- двадцати. Все мы сумеем нарисовать фигуру человечка:
кружок, с двумя точками-глазами, и вместо ног и рук четыре
палочки. Миллионы художников рисовали немного лучше, а иные и
гораздо лучше, но ведь есть пределы: никто не мог добраться до
Рафаэля, Леонардо да Винчи, Рембрандта. Кто из .нас не умел
промурлыкать легонький мотивчик или подбирать его одним пальцем
на пианино? Но наши музыкальные способности совсем не сродни
гению Бетховена, Моцарта или Вагнера и не имеют с ними ни одной
общей душевной черты.
Другие родятся с таким острым зрением, что свободно,
невооруженным глазом, видят кольца Сатурна. Так и любовь. Она
-- высочайший и самый редкий дар неведомого бога.
совокуплялись, наслаждались, оплодотворялись, размножались и
занимались этим в течение миллионов лет. Но много ли раз ты
слышал о большой и прекрасной любви, о любви, которая
выдерживает всякие испытания, преодолевает все преграды и
соблазны, торжествует над бедностью, болезнями, клеветой и
долгой разлукой, о высшей любви, о которой сказано, что она
сильнее смерти? И неужели ты не согласен со мною, что дар
любви, как и все дары человеческие, представляет собою лестницу
с бесконечным числом ступенек, ведущих от влажной, темной,
жирной земли вверх, к вечному небу и еще выше?
другом в кабачке, не грех сболтнуть лишнее. Позволь только
напомнить тебе о том, что была эпоха, когда человечество вдруг
содрогнулось от сознания того болота грязи, мерзости и пакости,
которые засосали любовь, и сделало попытку вновь очистить и
возвеличить любовь, хотя бы в лице женщины. Это средневековое
рыцарство с культом преклонения перед прекрасной дамой. И как
жаль, что это почти" священное служение женскому началу
выродилось в карикатуру, в шутотрагедию...
падало ниже всякого животного и опять победоносно вставало в
почти божеский рост. Может быть, опять придут аристократы духа,
жрецы любви, ее поэты и рыцари, целомудренные ее поклонники.
равно не быть одиннадцатым. Тем более что один из этих мудрецов
очень тонко намекнул нам: "Помолчи -- и будешь философом".
Гарсон, бутылку белого бордо! Я хочу тебе только сказать, друг
милый, что она, моя волшебная Мария, была создана богом любви
исключительно для большой, счастливой, доброй, радостной любви
и создана с необыкновенно заботливым вниманием. Но судьба
сделала какую-то ошибку во времени. Марии следовало бы родиться
или в золотой век человечества, или через несколько столетий
после нашей автомобильной, кровавой, торопливой и болтливой
эпохи.
цветущего дерева. При каждой нашей новой встрече Мария любила
меня так же радостно и застенчиво, как в первое свидание. У нее
не было ни любимых словечек, ни привычных ласк. В одном она
только оставалась постоянной: в своем неизменном изяществе,
которое затушевывало и скрашивало грубые, земные детали любви.
Да. Повторяю, у нее был высший дар любви. Но любовь крылата!
Ты, может быть, заметил, дружок, что на свете есть люди, как
будто нарочно приспособленные судьбою для авиации, для этого
единственно прекрасного и гордого завоевания современной
техники? У этих прирожденных летунов как будто птичьи профили и
птичьи носы; подобно птицам, они обладают неизъяснимым
инстинктом опознаваться в дороге; слух у них в обоих ушах
одинаков -- признак верного чувства равновесия, и они с
легкостью приводят в равновесие те предметы, у которых центр
тяжести выше точки опоры. Для таких людей-птиц заранее открыто
воздушное пространство и вверх, и вниз, и вдаль. Смелый летчик,
но не рожденный быть летчиком, запнется на первой тысяче метров
и потеряет сердце.
снах. Ведь известно, что все люди во снах летают, кроме
окончательно глупых. Но оказалось, что летуны по призванию
летали выше домов, к облакам. Летчики-неудачники -- только с
трудом отлипали от земли, а летали как бы в продолжительном
прыжке. Любовь -- такое же крылатое чувство. Но, сравнивая себя
в этом смысле с Марией, я сказал бы, что у нее были за плечами
два белоснежных, длинных лебединых крыла, я же летал, как
пингвин. Вначале я очень остро и, пожалуй, даже с обидой
чувствовал ее духовное воздушное превосходство надо мною и мою
собственную земную тяжесть, отчего невольно -- признаюсь в этом
-- бывал смущен и неловок и часто сердился на самого себя.
Конечно, это была простая мужская мнительность; воображение то
и дело подсказывало мне разные нелестные уподобления. Она
бывала иногда богиней, снизошедшей до смертного, матроной,
отдающейся рабу-гладиатору, принцессой, полюбившей конюха или
садовника. Ах, у каждого человека в душе, где-то, в ее плохо
освещенных закоулочках, бродят такие полумысли, получувства,
полуобразы, о которых стыдно говорить вслух даже другу, такие
они косолапые.
предупредительна, так нежна, догадлива была Мария, так щедра,
скромна и искренна, она была в любви так радостна, она любила
жизнь, и такая естественная теплая доброта ко всему живущему
исходила из нее золотыми лучами.
чудесных воспоминаний, заветных кусочков нашей неповторимой
жизни. Это -- целая книга. Перелистывая ее страницы, я
испытываю жестокое, жгучее наслаждение, точно бережу рану.
Мучаюсь мыслью о невозвратности времени, и в этом моя горькая
утеха, мой любовный запой. Часто жалею я о том, что у меня не
осталось от Марии никакой вещи: ленточки, локона волос, сухого
цветка, гребенки, перчатки, платка или хоть какой-нибудь
неодушевленной пуговицы. Тогда мои воспоминания были бы еще
глубже, еще мучительнее и еще слаще.
оком холодного реалиста и серьезного дельца.
и страстная, кроткая и всегда радостная любовь Марии, ее
трогательная ласка, ее здоровое веселье и преданность --
понемногу, день ото дня, все более притупляли то мое выдуманное
самоуничижение перед моей любовницей, которое раньше столь
тяготило и связывало меня. Я уже не искал с жадностью ее ласк,






 Глуховский Дмитрий
Глуховский Дмитрий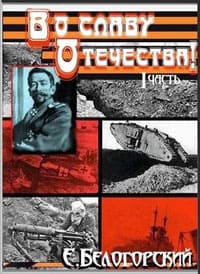 Белогорский Евгений
Белогорский Евгений Свержин Владимир
Свержин Владимир Орлов Алекс
Орлов Алекс Эриксон Стивен
Эриксон Стивен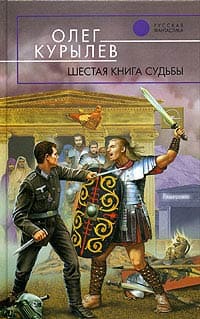 Курылев Олег
Курылев Олег