дверях стоял его отец.
Лужин, которого в первый раз в жизни выгоняли из комнаты,
остался от удивления, как был, на коленях. "Ты слышал?"--
сказал отец. Лужин сильно покраснел и стал искать на ковре
упавшие фигуры. "Побыстрее",-- сказал отец громовым голосом,
каким он не говорил никогда. Тетя стала торопливо, кое-как,
класть фигуры в ящик. Руки у нее дрожали. Одна пешка никак не
хотела влезть. "Ну, бери, бери,-- сказала она,-- бери же!" Он
медленно свернул клеенчатую доску и, с темным от обиды лицом,
взял ящик. Дверь он не мог прикрыть за собой, так как обе руки
были заняты. Отец быстро шагнул и так грохнул дверью, что Лужин
уронил доску, которая сразу развернулась; пришлось поставить на
пол ящик и свертывать ее опять. За дверью, в кабинете, сперва
было молчание, затем -- скрип кресла, принявшего тяжесть, и
прерывистый вопросительный шепот тети. Лужин брезгливо подумал,
что нынче все в доме сошли с ума, и пошел к себе в комнату. Там
он сразу расставил фигуры, как показывала тетя, долго смотрел
на них, соображая что-то; после чего очень аккуратно сложил их
в ящик. С этого дня шахматы остались у него, и отец долго не
замечал их отсутствия. С этого дня появилась в его комнате
обольстительная, таинственная игрушка, пользоваться которой он
еще не умел. С этого дня тетя никогда больше не приходила к ним
в гости.
уроком оказалось пустое место: простудился учитель географии.
Когда прошло минут пять после звонка, и никто еще не входил,
наступило такое предчувствие счастья, что, казалось, сердце не
выдержит, если все-таки стеклянная дверь сейчас откроется, и
географ, по привычке своей почти бегом, влетит в класс. Одному
Лужину было все равно. Низко склонясь над партой, он чинил
карандаш, стараясь сделать кончик острым, как игла. Нарастал
взволнованный шум. Счастье как будто должно было сбыться.
Иногда, впрочем, бывали невыносимые разочарования: вместо
заболевшего учителя вползал маленький, хищный математик и,
беззвучно прикрыв дверь, со злорадной улыбкой начинал выбирать
кусочки мела из желоба под черной доской. Но прошло полных
десять минут, и никто не являлся. Шум разросся. Кто-то, из
избытка счастья, хлопнул крышкой парты. Сразу из неизвестности
возник воспитатель. "Совершенная тишина,-- сказал он.-- Чтоб
была совершенная тишина. Валентин Иванович болен. Займитесь
каким-нибудь делом. Но чтоб была совершенная тишина". Он ушел.
За окном сияли большие, рыхлые облака, и что-то журчало,
капало, попискивали воробьи. Блаженный час, очаровательный час.
Лужин стал равнодушно чинить еще один карандаш. Громов
рассказывал что-то хриплым голосом, со смаком произнося
странные, непристойные словечки. Петрищев умолял всех объяснить
ему, почему мы знаем, что они равняются двум прямым. И вдруг
Лужин отчетливо услышал за своей спиной особый,
деревянно-рассыпчатый звук, от которого стало жарко, и невпопад
стукнуло сердце. Он осторожно обернулся. Кребс и единственный
тихоня в классе проворно расставляли маленькие, легкие фигуры
на трехвершковой шахматной доске. Доска была на скамье между
ними. Они сидели очень неудобно, боком. Лужин, забыв дочинить
карандаш, подошел. Игроки его не заметили. Тихоня, когда, много
лет спустя, старался вспомнить своего однокашника, никогда не
вспомнил этой случайной шахматной партии, сыгранной в пустой
час. Путая даты, он извлекал из прошлого смутное впечатление о
том, что Лужин когда-то кого-то в школе обыграл, чесалось
что-то в памяти, но добраться было невозможно.
мгновенным паническим содроганием подумал, что тетя назвала ему
не все фигуры. Но тура оказалась синонимом пушки. "Я просто не
заметил",-- сказал другой. "Бог с тобой, переиграй",-- сказал
Кребс.
глядел Лужин на их игру, стараясь понять, где же те стройные
мелодии, о которых говорил музыкант, и неясно чувствуя, что
каким-то образом он ее понимает лучше, чем эти двое, хотя
совершенно не знает, как она должна вестись, почему это хорошо,
а то плохо, и как надобно поступать, чтобы без потерь
проникнуть в лагерь чужого короля. И был один прием, очень ему
понравившийся, забавный своей ладностью: фигура, которую Кребс
назвал турой, и его же король вдруг перепрыгнули друг через
друга. Он видел затем, как черный король, выйдя из-за своих
пешек (одна была выбита, как зуб), стал растерянно шагать туда
и сюда. "Шах,-- говорил Кребс,-- шах"-- (и ужаленный король
прыгал в сторону) -- "сюда не можешь, и сюда тоже не можешь.
Шах, беру королеву, шах". Тут он сам прозевал фигуру и стал
требовать ход обратно. Изверг класса одновременно щелкнул
Лужина в затылок, а другой рукой сбил доску на пол. Второй раз
Лужин замечал, что за валкая вещь шахматы.
неслыханное решение. В школу он обыкновенно ездил на извозчике,
всегда, кстати сказать, старательно изучая номер, разделяя его
особым образом, чтобы поудобнее упаковать его в памяти и вынуть
его оттуда в целости, если будет нужно. Но сегодня он до школы
не доехал, номера от волнения не запомнил и, боязливо озираясь,
вышел на Караванной, а оттуда, кружными путями, избегая
школьного района, пробрался на Сергиевскую. По дороге ему
попался как раз учитель географии, который, сморкаясь и харкая
на ходу, огромными шагами, с портфелем под мышкой, несся по
направлению к школе. Лужин так резко отвернулся, что тяжело
звякнул таинственный предмет в ранце. Только, когда учитель,
как слепой ветер, промчался мимо, Лужин заметил, что стоит
перед парикмахерской витриной, и что завитые головы трех
восковых дам с розовыми ноздрями в упор глядят на него. Он
перевел дух и быстро пошел по мокрому тротуару, бессознательно
стараясь делать такие шаги, чтобы каждый раз каблук попадал на
границу плиты. Но плиты были все разной ширины, и это мешало
ходьбе. Тогда он сошел на мостовую, чтобы избавиться от
соблазна, пошел вдоль самой панели, по грязи. Наконец, он
завидел нужный ему дом, сливовый, с голыми стариками,
напряженно поддерживающими балкон, и с расписными стеклами в
парадных дверях. Он свернул в ворота, мимо убеленной голубями
тумбы, и, прошмыгнув через двор, где двое с засученными
рукавами мыли ослепительную коляску, поднялся по лестнице и
позвонил. "Еще спят,-- сказала горничная, глядя на него с
удивлением.-- Побудьте, что ли, вот тут. Я им погодя доложу".
Лужин деловито свалил ранец с плеч, положил его подле себя на
стол, где была фарфоровая чернильница, бисером расшитый бювар и
незнакомая фотография отца (в одной руке книга, палец другой
прижат к виску), и от нечего делать стал считать, сколько
разных красок на ковре. В этой комнате он побывал только
однажды,-- когда, по совету отца, отвез тете на Рождестве
большую коробку шоколадных конфет, половину которых он съел
сам, а остальные разложил так, чтобы не было заметно. Тетя еще
недавно бывала у них ежедневно, а теперь перестала, и было
что-то такое в воздухе, какой-то неуловимый запрет, который
мешал дома об этом спрашивать. Насчитав девять оттенков, он
перевел глаза на шелковую ширму, где вышиты были камыши и
аисты. Только он стал соображать, есть ли такие же аисты и на
другой стороне, как, наконец, вошла тетя,-- непричесанная, в
цветистом халате, с рукавами, как крылья. "Ты откуда? --
воскликнула она.-- А школа? Ах ты, смешной мальчик..."
пустой, был так легок, что прыгал на лопатках. Надо было
как-нибудь провести время до часа обычных возвращений. Он
побрел в Таврический сад, и пустота в ранце постепенно стала
его раздражать. Во-первых, то, что он из предосторожности
оставил у тети, могло как-нибудь пропасть до следующего раза;
во-вторых, оно бы пригодилось ему дома по вечерам. Он решил,
что впредь будет поступать иначе.
воспитателю, который мимоходом понаведался, почему он не был в
школе. В четверг он ушел из школы раньше и пропустил подряд три
дня, после чего объяснил, что болело горло. В среду был
рецидив. В субботу он опоздал на первый урок, хотя выехал из
дома раньше обыкновенного. В воскресенье он поразил мать
сообщением, что приглашен к товарищу, и отсутствовал часов
пять. В среду распустили раньше (это был один из тех чудесных
дней, голубых, пыльных, в самом конце апреля, когда уже роспуск
так близок, и такая одолевает лень), но вернулся-то он домой
гораздо позже обычного. А потом была уже целая неделя
отсутствия,-- упоительная, одуряющая неделя. Воспитатель
позвонил к нему на дом, узнать, что с ним. К телефону подошел
отец.
серое, глаза выпученные, а мать точно лишилась языка,
задыхалась, а потом стала странно хохотать, с завыванием, с


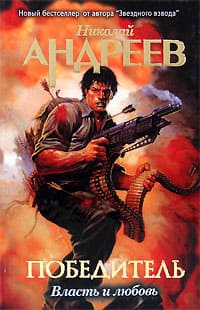

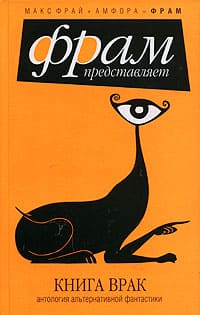

 Посняков Андрей
Посняков Андрей Березин Федор
Березин Федор Перумов Ник
Перумов Ник Лукин Евгений
Лукин Евгений Шилова Юлия
Шилова Юлия Лукьяненко Сергей
Лукьяненко Сергей