криками. После минуты замешательства, отец молча повел его в
кабинет и, сложив руки на груди, попросил объяснить. Лужин, с
тяжелым, драгоценным ранцем под мышкой, уставился в пол,
соображая, способна ли тетя на предательство. "Изволь мне
объяснить",-- повторил отец. На предательство она не может быть
способна, да и откуда ей узнать, что он попался.
"Отказываешься?"-- спросил отец. Кроме того, ей как будто даже
нравилось, что он пропускает школу. "Ну, послушай,-- сказал
отец примирительно,-- давай говорить, как друзья". Лужин со
вздохом сел на ручку кресла, продолжая глядеть в пол. "Как
друзья,-- еще примирительнее повторил отец.-- Вот, значит,
оказывается, что ты несколько раз пропускал школу. И вот, мне
хотелось бы знать, где ты был, что делал. Я даже понимаю, что,
например, прекрасная погода и тянет гулять". "Да, тянет",--
равнодушно сказал Лужин, которому становилось скучно. Отец
захотел узнать, где он гулял, и, давно ли у него такая
потребность гулять. Затем он упомянул о том, что у каждого
человека есть долг, долг гражданина, семьянина, солдата, а
также школьника. Лужин зевнул. "Иди к себе",-- безнадежно
сказал отец и, когда тот вышел, долго стоял посреди кабинета и
с тупым ужасом смотрел на дверь. Жена, слушавшая из соседней
комнаты, вошла, села на край оттоманки и опять разрыдалась. "Он
обманывает,-- повторяла она,-- как и ты обманываешь. Я окружена
обманом", Он только пожал плечами и подумал о том, как грустно
жить, как трудно исполнять долг, не встречаться, не звонить, не
ходить туда, куда тянет неудержимо... а тут еще с сыном... эти
странности... это упрямство... Грусть, грусть, да и только.
могильная сырость, сколько бы ни открывали окна, выходившие
прямо в тяжелую, темную хвою, такую пышную и запутанную, что
невозможно было сказать, где кончается одна ель, где начинается
другая,-- в этой нежилой комнате, где на голом письменном столе
стоял бронзовый мальчик со скрипкой,-- был незапертый книжный
шкал, и в нем толстые тома вымершего иллюстрированного журнала.
Лужин быстро перелистывал их, добираясь до той страницы, где,
между стихотворением Коринфского, увенчанным арфообразной
виньеткой, и отделом смеси со сведениями о передвигающихся
болотах, американских чудаках и длине человеческих кишок, была
гравирована шахматная доска. Никакие картины не могли удержать
руку Лужина, листавшую том,-- ни знаменитый Ниагарский водопад,
ни голодающие индусские дети, толстопузые скелетики, ни
покушение на испанского короля. Жизнь с поспешным шелестом
проходила мимо, и вдруг остановка,-- заветный квадрат, этюды,
дебюты, партии.
цветами,-- особенно этого душистого старика, пахнувшего то
фиалкой, то ландышем, в зависимости от тех цветов, которые он
приносил тете. Приходил он обыкновенно очень удачно,-- через
несколько минут после того, как тетя, посмотрев на часы,
уходила из дому. "Что ж, подождем",-- говорил старик, снимая
мокрую бумагу с букета, и Лужин придвигал ему кресло к столику,
где уже расставлены были шахматы. Появление старика с цветами
было выходом из довольно неловкого положения. После
трех-четырех школьных пропусков обнаружилась неспособность тети
играть в шахматы. Ее фигуры сбивались в безобразную кучу,
откуда вдруг выскакивал обнаженный беспомощный король. Старик
же играл божественно. Первый раз, когда тетя, натягивая
перчатки, скороговоркой сказала: "я, к сожалению, должна уйти,
но вы посидите, сыграйте в шахматы с моим племянником, спасибо
за чудные ландыши",-- в первый раз, когда старик сел и сказал
со вздохом: "давненько не брал я в руки... ну-с, молодой
человек,-- левую или правую?"-- в первый этот раз, когда через
несколько ходов уже горели уши и некуда было сунуться,-- Лужину
показалось, что он играет совсем в другую игру, чем та, которой
его научила тетя. Благоухание овевало доску. Старик называл
королеву ферзем, туру -- ладьей и, сделав смертельный для
противника ход, сразу брал его назад, и, словно вскрывая
механизм дорогого инструмента, показывал, как противник должен
был сыграть, чтобы предотвратить беду. Первые пятнадцать партий
он выиграл без всякого труда, ни минуты не думая над ходом, во
время шестнадцатой он вдруг стал думать и выиграл с трудом, в
последний же день, в тот день, когда старик приехал с целым
кустом сирени, который некуда было поставить, а тетя на
цыпочках бегала у себя в спальне и потом, вероятно, ушла черным
ходом,-- в этот день, после долгой, волнующей борьбы, во время
которой у старика открылась способность сопеть, Лужин что-то
постиг, что-то в нем освободилось, прояснилось, пропала
близорукость мысли, от которой мучительной мутью заволакивались
шахматные перспективы. "Ну, что ж, ничья",-- сказал старик. Он
двинул несколько раз туда и сюда ферзем, как двигаешь рычагом
испортившейся машины, и повторил: "Ничья. Вечный шах". Лужин
попробовал тоже, не действует ли рычаг, потеребил, потеребил и
напыжился, глядя на доску. "Далеко пойдете,-- сказал старик,--
Далеко пойдете, если будете продолжать в том же духе, Большие
успехи. Первый раз вижу... Очень, очень далеко..."
разыгрывая партии, приведенные в журнале, вскоре открыл в себе
свойство, которому однажды позавидовал, когда отец за столом
говорил кому-то, что он-де не может понять, как тесть его
часами читал партитуру, слышал все движения музыки, пробегая
глазами по нотам, иногда улыбаясь, иногда хмурясь, иногда на
минуту возвращаясь назад, как делает читатель, проверяющий
подробность романа,-- имя, время года. "Большое, должно быть,
удовольствие,-- говорил отец,-- воспринимать музыку в
натуральном ее виде". Подобное удовольствие Лужин теперь начал
сам испытывать, пробегая глазами по буквам и цифрам,
обозначавшим ходы. Сперва он научился разыгрывать партии,--
бессмертные партии, оставшиеся от прежних турниров,-- беглым
взглядом скользил по шахматных нотам и беззвучно переставлял
фигуры на доске. Случалось, что после какого-нибудь хода,
отмеченного восклицанием или вопросом, смотря по тому, хорошо
или худо было сыграно, следовало несколько серий ходов в
скобках, ибо примечательный ход разветвлялся подобно реке, и
каждый рукав надобно было проследить до конца, прежде, чем
возвратиться к главному руслу. Эти побочные, подразумеваемые
ходы, объяснявшие суть промаха или провидения, Лужин
мало-помалу перестал воплощать на доске и угадывал их гармонию
по чередовавшимся знакам. Точно так же, уже однажды разыгранную
партию он мог просто перечесть, не пользуясь доской: это было
тем более приятно, что не приходилось возиться с шахматами,
ежеминутно прислушиваясь, не идет ли кто-нибудь; дверь, правда,
он запирал на ключ, отпирал ее нехотя, после того, как медная
ручка много раз опускалась,-- и отец. приходивший смотреть, что
он делает в сырой, нежилой комнате, находил сына, беспокойного
и хмурого, с красными ушами; на столе лежали тома журнала, и
Лужин старший охвачен бывал подозрением, не ищет ли в них сын
изображений голых женщин. "Зачем ты запираешь дверь?--
спрашивал он (и маленький Лужин втягивал голову в плечи, с
ужасающей ясностью представляя себе, как вот-вот, сейчас, отец
заглянет под диван и найдет шахматы).-- Тут прямо ледяной
воздух. И что же интересного в этих старых журналах? Пойдем-ка
посмотреть, нет ли красных грибов под елками".
шапке прилипали хвойные иглы, иногда травинка оставляла на ней
длинный, тонкий след. Испод бывал дырявый, на нем сидел порою
желтый слизень,-- и с толстого, пятнисто-серого корня Лужин
старший ножичком счищал мох и землю, прежде чем положить гриб в
корзину. Сын шел за ним, отстав на пять-шесть шагов, заложив
руки за спину, как старичок, и не только грибов не искал, но
даже отказывался смотреть на те, которые с довольным кряканием
откапывал отец. И иногда, в конце аллеи, полная и бледная, в
своем печальном белом платье, не шедшем ей, появлялась мать и
спешила к ним, попадая то в солнце, то в тень, и сухие листья,
которые никогда не переводятся в северных рощах, шуршали под ее
белыми туфлями на высоких, слегка скривившихся каблуках. И
как-то, в июле, на лестнице веранды, она поскользнулась и
вывихнула ногу, и долго потом лежала,-- то в полутемной
спальне, то на веранде,-- в розовом капоте, напудренная, и
рядом, на столике, стояла серебряная вазочка с бульдегомами.
Нога скоро поправилась, но она осталась лежать, как будто
решив, что так ей суждено, что именно это жизнью ей
предназначено. Д лето было необыкновенно жаркое, комары не
давали покоя, с реки день-деньской раздавались визги купавшихся
девиц, и в один такой томный день, рано утром, когда еще слепни
не начали мучить черной пахучей мазью испачканную лошадь, Лужин
старший уехал на весь день в город. "Пойми же, наконец. Мне
необходимо повидаться с Сильвестровым,-- говорил он накануне,



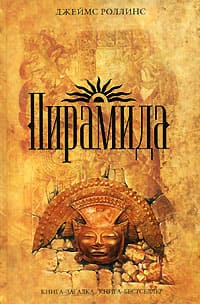


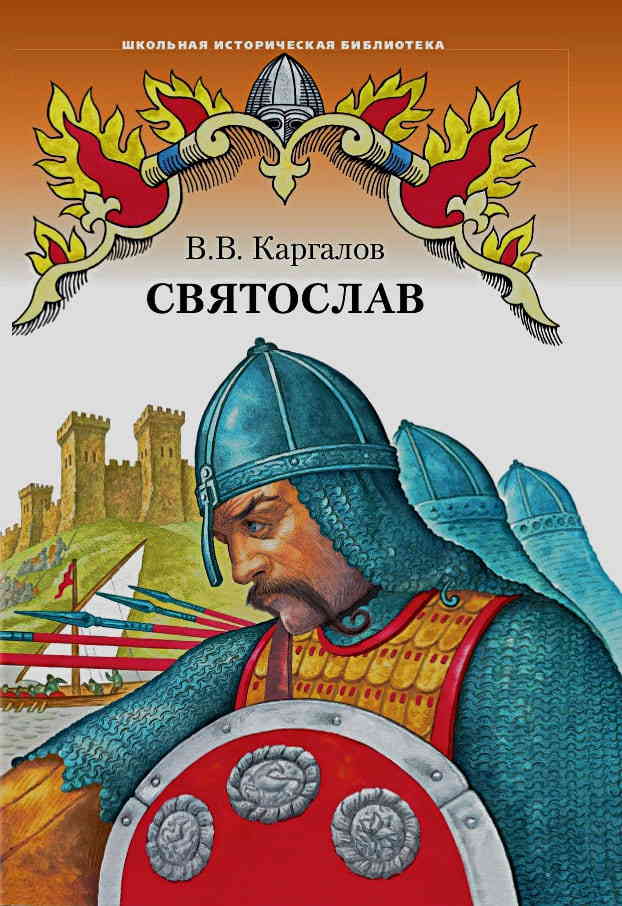 Каргалов Вадим
Каргалов Вадим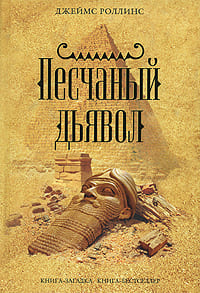 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Глуховский Дмитрий
Глуховский Дмитрий Плотников Александр
Плотников Александр Мацумото Сэйте
Мацумото Сэйте