расхаживая по спальне в своем мышиного цвета халате.-- Какая
ты, право, странная. Ведь это важно. Я сам предпочел бы
остаться". Но жена продолжала лежать, уткнувшись лицом в
подушку, и ее толстая, беспомощная спина вздрагивала. Все же он
утрем уехал,-- и сын, стоя в саду, видел, как над зубчатым
рядом елочек, отгораживавших сад от дороги, несся бюст кучера и
шляпа отца.
были изучены, все задачи решены, и приходилось играть самому с
собой, а это безнадежно кончалось разменом всех фигур и вялой
ничьей. И было невыносимо жарко. От веранды на яркий песок
ложилась черная треугольная тень. Аллея была вся пятнистая от
солнца, и эти пятна принимали, если прищуриться, вид ровных,
светлых и темных, квадратов. Под скамейкой тень распласталась
резкой решеткой. Каменные столбы с урнами, стоявшие на четырех
углах садовой площадки, угрожали друг другу по диагонали. Реяли
ласточки, полетом напоминая движение ножниц, быстро вырезающих
что-то. Не зная, что делать с собой, он побрел по тропинке
вдоль реки, а за рекой был веселый визг, и мелькали голые тела.
Он стал за ствол дерева, украдкой, с бьющимся сердцем,
вглядываясь в это белое мелькание. Птица прошумела в ветвях, и
он испугался, быстро пошел назад, прочь от реки. Завтракал он
один с экономкой, молчаливой, желтолицой старухой, от которой
всегда шел легкий кофейный запах. Затем, валяясь на диване в
гостиной, он сонно слушал всякие легкие звуки, то Крик иволги в
саду, то жужжание шмеля, влетевшего в окно, то звон посуды на
подносе, который несли вниз из спальни матери,-- и эти сквозные
звуки странно преображались в его полусне, принимали вид
каких-то сложных, светлых узоров на темном фоне, и, стараясь
распутать их, рн уснул. Его разбудила горничная, посланная
матерью... В спальне было темновато и уныло; мать привлекла его
к себе, но он так напрягся, так отворачивался, что пришлось его
отпустить. "Ну, расскажи мне что-нибудь",-- сказала она тихо.
Он пожал плечами, ковыряя пальцем колено, "Ничего не хочешь
рассказать?"-- спросила она еще тише. Он посмотрел на ночной
столик, положил в рот будьдегом и стал его сосать,-- взял
второй, третий, еще и еще, пока рот не наполнился сладкими,
глухо стукавшимися шарами. "Бери, бери, сколько хочешь",--
шептала она и, выпростав руку, старалась как-нибудь его
погладить. "Ты совсем не загорел в этом году,-- сказала она,
погодя.-- А может быть, я просто не вижу, тут такой мертвый
свет, все синее. Подними жалюзи, пожалуйста. Или нет, постой,
останься. Потом". Дососав бульдегомы, он справился, можно ли
ему уходить. Она спросила, что он сейчас будет делать, не хочет
ли он поехать на станцию к семичасовому поезду встречать отца.
"Отпустите меня,-- сказал он.-- У вас пахнет лекарством",
как он сам никогда в школе не делал; но ступени были слишком
высокие. Под лестницей, в шкалу, еще не до конца исследованном,
он поискал журналов. Журнал он выкопал, нашел в нем шашечный
отдел, глупые неповоротливые плошки, тупо стоявшие на доске, но
шахмат не было. Под руку все попадался альбом-гербарий с сухими
эдельвейсами и багровыми листьями и с надписями детским,
тоненьким, бледно-лиловым почерком, столь непохожим на
теперешний почерк матери: Давос, 1885 г.; Гатчина, 1886 г. Он в
сердцах стал выдирать листья и цветы и зачихал от мельчайшей
пыли, сидя на корточках среди разбросанных книг. Потом стало
так темно под лестницей, что уже страницы журнала, который он
снова перелистывал, стали сливаться в серую муть, и иногда
какая-нибудь небольшая картинка обманывала, казалась в
расплывчатой темноте шахматной задачей. Он засунул кое-как
книги в шкал, побрел в гостиную, вяло подумал, что, верно, уже
восьмой час, так как буфетчик зажигает керосиновые лампы.
Опираясь на трость и держась за перила, в сиреневом пеньюаре,
тяжело спускалась мать, и лицо у нее было испуганное. "Я не
понимаю, почему твой отец еще не приехал",-- сказала она и, с
трудом передвигаясь, вышла на веранду, стала вглядываться в
дорогу между еловых стволов, обтянутых там и сям ярко-рыжим
лучом.
поезд, очень много было дел, обедал с издателем,-- нет, нет,
супа не нужно. Он смеялся и говорил очень громко и шумно ел, и
Лужин вдруг почувствовал, что отец все время смотрит на него,
точно ошеломлен его присутствием Обед как-то слился с вечерним
чаем, мать, облокотясь на стол, молча щурилась, глядя на
тарелку с малиной, и, чем веселее рассказывал отец, тем больше
она щурилась. Потом она встала и тихо ушла, и Лужину
показалось, что все это уже раз было. Он остался на веранде
один с отцом и боялся поднять голову, все время чувствуя на
себе пристальный, странный взгляд.
Чем занимались?" "Ничем",-- ответил Лужин. "А теперь что вы
собираетесь делать? -- тем же напряженно шутливым голосом,
подражая манере сына говорить на вы, спросил Лужин старший.--
Хотите уже спать ложиться или тут со мной посидеть?" Лужин убил
комара и очень осторожно, снизу и сбоку, взглянул на отца. У
отца была крошка на бороде, и неприятно насмешливо блестели
глаза. "Знаешь что? -- сказал он, и крошка спрыгнула.-- Знаешь
что? Давай во что-нибудь сыграем. Хочешь, например, я тебя
научу в шахматы?"
поспешно добавил: "Или в кабалу,-- там есть карты в столике".
"А шахмат у нас нет",-- хрипло сказал Лужин и опять осторожно
взглянул на отца, "Хорошие остались в Петербурге,-- спокойно
сказал отец,-- но, кажется, есть старые на чердаке. Пойдем,
посмотрим".
отец, Лужин нашел в ящике, среди всякого хлама, доску и при
этом опять почувствовал, что все это уже было раз,-- открытый
ящик с торчащим сбоку гвоздем, пылью опушенные книги,
деревянная доска с трещиной посредине. Нашлась и коробочка с
выдвижной крышкой; в ней были щуплые шахматные фигуры. И все
время, пока он искал, а потом нес шахматы вниз, на веранду,
Лужин старался понять, случайно ли отец заговорил о шахматах,
или подсмотрел что-нибудь,-- и самое простое объяснение не
приходило ему в голову, как иногда, при решении задач, ключом к
ней оказывается ход, который представляется запретным,
невозможным, естественным образом выпадающим из ряда возможных
ходов. И теперь, когда на освещенном столе, между лампой и
Простоквашей, была положена доска, и отец стал ее вытирать
газетой, лицо у него было уже не насмешливое, и Лужин, забыв
страх, забыв тайну, вдруг наполнился горделивым волнением при
мысли о том, что он может, если пожелает, показать свое
искусство. Отец начал расставлять фигуры. Одну из пешек
заменяла нелепая фиолетовая штучка вроде бутылочки; вместо
одной ладьи была шашка; кони были без голов, и та конская
голова, которая осталась после опорожнения коробки (вместе с
маленькой игральной костью и красной фишкой), оказалась
неподходящей ни к одному из них. Когда все было расставлено,
Лужин вдруг решился и пробормотал: "Я уже немножко умею". "Кто
же тебя научил?"-- не поднимая головы, спросил отец. "В
школе,-- ответил Лужин.-- Там некоторые играли". "А!
великолепно,-- сказал отец.-- Начнем, пожалуй..."
безалаберно, со случайными игроками,-- на волжском пароходе в
погожий вечер, в иностранной санатории, где некогда умирал
брат; на даче с сельским доктором, нелюдимым человеком, который
периодически переставал к ним заглядывать,-- и все эти
случайные партии, полные зевков и бесплодных раздумий, были для
него небрежным отдохновением или просто способом пристойно
молчать в обществе человека, с которым беседа не клеится,--
короткие, незамысловатые партии, не отмеченные ни самолюбием,
ни вдохновением, и которые он всегда одинаково начинал, мало
обращая внимания на ходы противника. Не сетуя на проигрыш, он
все же втайне считал, что играет очень недурно, и если
проигрывает, то по рассеянности, по добродушию, по желанию
оживить игру храбрыми вылазками, и полагал, что, если
приналечь, можно и без теорий опровергнуть любой гамбит из
учебника. Страсть сына к шахматам так поразила его, показалась
такой неожиданной и вместе с тем роковой, неизбежной,-- так
странно и страшно было сидеть на этой яркой веранде, среди
черной летней ночи, против этого мальчика, у которого словно
увеличился, разбух напряженный лоб, как только он склонился над
фигурами,-- так это было все странно и страшно, что
сосредоточить мысль на шахматном ходе он не мог и, притворяясь
думающим, то смутно вспоминал свой беззаконный петербургский
день, оставивший чувство стыда, в которое лучше было не
углубляться, то глядел на легкое, небрежное движение, которым
сын переставлял фигуру. И через несколько минут сын сказал:
"Если так, то мат, а если так, то пропадает ваш ферзь",-- и он,






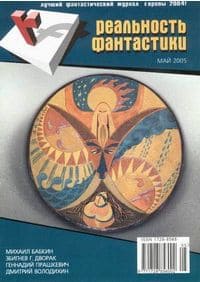 Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий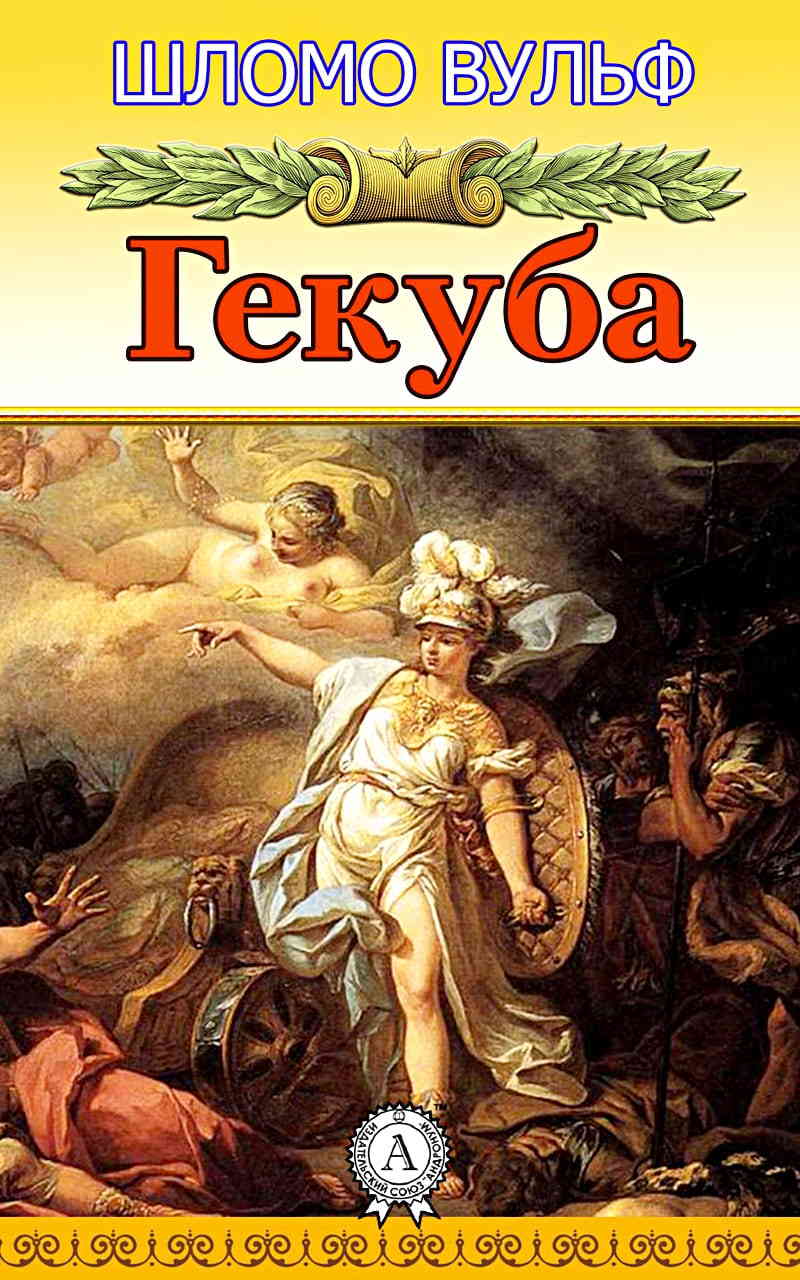 Шломо Вульф
Шломо Вульф Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Махров Алексей
Махров Алексей Свержин Владимир
Свержин Владимир Белов Вольф
Белов Вольф