Владимир Набоков.
Король, дама, валет
ежеминутным жестом, сейчас вот дрогнет, и от ее тугого толчка
тронется весь мир: медленно отвернется циферблат, полный
отчаяния, презрения и скуки; столбы, один за другим, начнут
проходить, унося, подобно равнодушным атлантам, вокзальный
свод; потянется платформа, увозя в неведомый путь окурки,
билетики, пятна солнца, плевки; не вращая вовсе колесами,
проплывет железная тачка; книжный лоток, увешанный
соблазнительными обложками,-- фотографиями жемчужно-голых
красавиц,-- пройдет тоже; и люди, люди, люди на потянувшейся
платформе, переставляя ноги и все же не подвигаясь, шагая
вперед и все же пятясь,-- как мучительный сон, в котором есть и
усилие неимоверное, и тошнота, и ватная слабость в икрах, и
легкое головокружение,-- пройдут, отхлынут, уже замирая, уже
почти падая навзничь...
провожающих... Сестра Франца, такая бледная в этот ранний час,
нехорошо пахнущая натощак, в клетчатой пелерине, какой, небось,
не носят в столице,-- и мать, маленькая, круглая, вся в
коричневом, как плотный монашек. Вот запорхали платки.
улыбки,-тронулся не только вокзал, с лотком, тачкой, белым
продавцом слив и сосисок,-- тронулся и старый городок в
розоватом тумане осеннего утра: каменный курфюрст на площади,
землянично-темный собор, поблескивающие вывески, цилиндр, рыба,
медное блюдо парикмахера... Теперь уж не остановить. Понесло!
Торжественно едут дома, хлопают занавески в открытых окнах
родного дома, потрескивают полы, скрипят стены, сестра и мать
пьют на быстром сквозняке утренний кофе, мебель вздрагивает от
учащающихся толчков,-- все скорее, все таинственнее едут дома,
собор, площадь, переулки... И хотя уже давно мимо вагонного
окна развертывались поля в золотистых заплатах, Франц еще
ощущал, как отъезжает городишко, где он прожил двадцать лет.
сидели, кроме Франца: две плюшевых старушки, дебелая женщина с
корзиной яиц на коленях и белокурый юноша в коротких желтых
штанах, крепкий, угластый, похожий на свой же туго набитый,
словно высеченный из желтого камня мешок, который он энергично
стряхнул с плеч и бухнул на полку. Место у двери, против
Франца, было занято журналом с голой стриженой красавицей на
обложке, а в коридоре, у окна, спиной к отделению, стоял
широкоплечий господин.
мыслью, что пропал бумажник, в котором так много: крепкий
билетик, и чужая визитная карточка, и непочатый месяц
человеческой жизни. Бумажник был тут как тут, плотный и теплый.
Старушки стали шевелиться, шурша разоблачать бутерброды.
Господин, стоявший в проходе, повернулся и, слегка качнувшись,
отступив на полшага и снова поборов шаткость пола, вошел в
отделение.
обтянут по кости белесой кожей, кругленькие, черные ноздри
непристойны и асимметричны, на щеках, на лбу -- целая география
оттенков,-- желтоватость, розоватость, лоск. Бог знает, что
случилось с этим лицом,-- какая болезнь, какой взрыв, какая
едкая кислота его обезобразили. Губ почти не было вовсе,
отсутствие ресниц придавало выпуклым, водянистым глазам
невольную наглость. А наряден и статен был господин на диво:
шелковый галстук в нежных узорах нырял, слегка изогнувшись, под
двубортный жилет. Руки в серых перчатках подняли, раскрыли
журнал с соблазнительной обложкой.
страшное ощущение: неотвязно мерзка влажность н°ба,
отвратительно жив толстый, пупырчатый язык. Память стала
паноптикумом, и он знал, знал, что там, где-то в
глубине,-камера ужасов. Однажды собаку вырвало на пороге мясной
лавки: однажды ребенок поднял с панели и губами стал надувать
нечто, похожее на соску, желтое, прозрачное; однажды
простуженный старик в трамвае пальнул мокротой... Все --
образы, которых Франц сейчас не вспомнил ясно, но которые
всегда толпились на заднем плане, приветствуя истерической
судорогой всякое, новое, сродное им впечатление. После таких
ужасов, в те еще недавние дни, вялый, долговязый, перезрелый
школьник ронял из рук портфель, бросался ничком на кушетку, и
его долго, мучительно мутило. Мутило его и на последнем
экзамене,-оттого, что сосед по парте, задумавшись, грыз и без
того обгрызанные, мясом ущемленные ногти. И школу Франц покинул
с облегчением, полагая, что отделался навсегда от ее
грязноватой, прыщеватой жизни.
фотографии на обложке было чудовищно. Румяная торговка сидела
рядом с монстром, прикасаясь к нему сонным плечом; рюкзак юноши
лежал бок-о-бок с его черным, склизким, пестрым от наклеек,
чемоданом, а главное,-- старушки, несмотря на мерзкое
соседство, жевали бутерброды, посасывали мохнатые дольки
апельсинов, завертывали корки в бумажки и деликатно бросали под
лавку... Франц стискивал челюсти, сдерживая смутный позыв на
рвоту. Когда же господин отложил журнал и стал сам, не снимая
перчаток, есть булочку с сыром, вызывающе глядя на Франца, он
не стерпел. Быстро встав, запрокинув побелевшее лицо, он
расшатал, стащил сверху свой чемодан, надел пальто и шляпу и,
неловко стукнувшись чемоданом о косяк, вышел в коридор.
окон пролетал буковый лес, рябили лиловатые стволы, испещренные
солнцем. Он неуверенно пошел по коридору, всматриваясь в
отделения. Только в одном из них было свободное место; зато там
сидела сердитая женщина с двумя бледными, чернорукими,
раздраженными детьми, которые, подняв плечи в ожидании
неизбежного подзатыльника, тихонько сползали с лавки, чтобы
поиграть сальными бумажками на полу, у ног пассажиров. Франц
дошел до конца вагона и там остановился, пораженный небывалой
мыслью. Эта мысль была так хороша, так дерзновенна, что даже
сердце запнулось, и на лбу выступил пот. "Нет, нельзя..." --
вполголоса сказал Франц, уже зная, впрочем, что соблазна не
перебороть. Затем, двумя пальцами проверив узел галстука, он с
восхитительным замиранием под ложечкой перешел по шаткой
соединительной площадке в следующий вагон.
Франца чем-то непозволительно привлекательным, немного
греховным, пожалуй,-- с привкусом пряного мотовства,--как рюмка
густого белого кюрасо, как трехминутная поездка в таксомоторе,
как тот огромный помплимус, похожий на желтый череп, который он
как-то купил по дороге в школу. О первом классе нельзя было
мечтать вовсе: бархатные покои, где сидят дипломаты в дорожных
кепках и почти неземные актрисы!.. Но во второй... во второй...
ежели набраться смелости... Покойный отец (нотариус и
филателист) езжал, говорят,--давно, до войны,-- вторым классом.
И все-таки Франц не решался,-- замирал в начале прохода, у
таблички, сообщавшей вагонный инвентарь,-- и уже не решетчатый
лес мелькал за окнами, а благородно плыли просторные поля, и
вдалеке, параллельно полотну, текла дорога, по которой
улепетывал лилипутовый автомобиль.
обход. Франц прикупил своему билету дополнительный чин. Гулким
мраком бабахнул короткий туннель. Опять светло, и уже нет
кондуктора.
сидели только двое: чудесная, большеглазая дама и пожилой
господин с подстриженными желтыми усами. Франц снял пальто и
осторожно сел. Сиденье было так мягко, так уютно торчал у виска
полукруглый выступ, отделяющий одно место от другого, так
изящны были снимки на стенке: какой-то собор, какой-то
водопад... Он медленно вытянул ноги, медленно вынул из кармана
газету; но читать не мог: оцепенел в блаженстве, держа
раскрытую газету перед собой. Его спутники были обаятельны.
Дама -- в черном костюме, в черной шапочке с маленькой
бриллиантовой ласточкой, лицо серьезное, холодноватые глаза,
легкая тень над губой и бархатно-белая шея в нежнейших
поперечных бороздках на горле. Господин, верно, иностранец,
оттого что воротничок мягкий, и вообще... Однако Франц ошибся.
нет фруктов...
погодя, добавила:




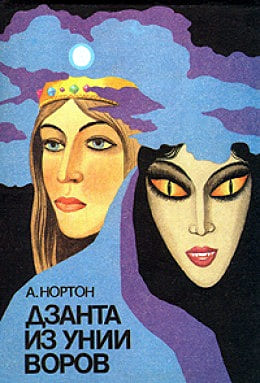
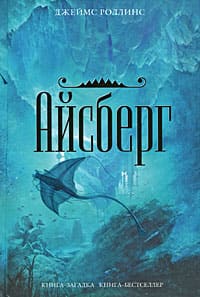
 Конюшевский Владислав
Конюшевский Владислав Посняков Андрей
Посняков Андрей Березин Федор
Березин Федор Шекли Роберт
Шекли Роберт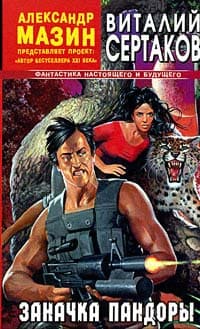 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий