его ноздрей. Перестала лосниться впадинка подбородка, и он
ежедневно брился, уничтожая не только твердый темный волос на
щеках и на шее, но и легкий пух на скулах. Он стал холить руки
и употреблял душистую воду для волос. Вообще, он сошел бы за
приличнейшего, обыкновеннейшего приказчика, если бы вот не эта
чуть хищная угловатость ноздрей, да какая-то странная слабость
в очертаниях губ, как будто он запыхался, да глаза за стеклами
очков,-- беспокойные глаза, нечистого цвета, со всегда
воспаленными жилками на белках. И нехорошо было, что одна
коричневая прядь имела обыкновение отклеиваться и спадать ему
на висок, до самой брови.
ракеты с янтарными струнами, и бодрый диалог с покупателем, и
автоматическая запись, и эти полки, ящики, выставки,
прилавки--и остальная огромная часть магазина, гудящая за
перегородкой,-- все это было поверхностно, проходило мимо, не
задевало, не занимало,-- как будто он был одной из тех
молодцеватых фигур с восковыми лицами, в костюмах, выглаженных
утюгом идеала, стоявших на подмостках с чуть протянутыми,
согнутыми в локтях руками. Молодые покупательницы или
быстроногие стриженые приказчицы других отделов нисколько не
волновали его. Как цветные, коммерческие объявления, которые,
без музыки, долго мелькают перед началом обольстительного
фильма,-- все это было вполне необходимо и вполне
незначительно. В семь часов это обрывалось. Тогда-то начиналась
музыка.
этом "почти",-- он бывал в доме у Драйера. Обедал. он там
только по воскресеньям, дай то не всегда; в будни же столовался
в ресторанчике неподалеку от магазина. Зато по вечерам, вот уже
больше месяца, вот уже, пожалуй, двадцать, двадцать пять
вечеров...
освещающий тропу, сырое дыхание газона, хруст гравия, звонок,
улетающий в дом в погоню за горничной, белый свет, спокойное,
лошадиное лицо Фриды,-- и вдруг -- жизнь, нежный гром музыки из
трубы радио...
ужину--всегда очень точно, и всегда предупреждал по телефону,
когда опаздывал. В его присутствии Франц чувствовал себя до
одури неловко, и потому воспитал в себе, в те дни, какую-то
мрачную фамильярность по отношению к Драйеру. Пока же он был
наедине с Мартой, он все время ощущал где-то на затылке
давление, томную тяжесть, и в груди была духота, в
ногах--слабость, ладонь долго хранила сухую прохладу ее
крепкого рукопожатия. С точностью до полудюйма он отмечал ту
черту, до которой она показывала ноги,-- когда ходила по
комнате, когда сидела, положив ногу на ногу,--и чувствовал,
почти не глядя, тугой теплый лоск ее чулка, вздутие левой икры,
подпертой правым коленом, складки на юбке, пологие, нежные, к
которым хотелось прижаться лицом. Иногда, когда она, встав,
шагала мимо, к трубе радио, свет так падал, что в легкой ткани
юбки сквозили тени ее ног выше колен, а раз у нее лесенкой
порвался чулок, и, облизнув палец, она быстро провела им по
шелку. Изредка, переборов томную тяжесть, он поднимал глаза, и,
пользуясь мгновением, когда она смотрела вниз или в сторону,
искал хоть какого-нибудь недостатка, на котором он мог бы
опереть мысль и отделаться от безнадежного волнения. Иногда,
мимолетно, ему казалось, что он нашел что-то,-- некрасивую
черточку у рта, щербинку над бровью, слишком хмурую выпуклость
губ в профиль и тень пушка над ними, особенно заметную, когда с
ее липа сходила пудра; но малейший поворот головы, малейшая
перемена выражения снова придавали ее лицу такую прелесть, что
он не в силах был дольше смотреть. Вот такими быстрыми,
короткими взглядами он изучил ее всю, предчувствовал движение
ее проворно поднявшейся руки, когда гребешок отлипал одним
концом от тяжелого шиньона, знал синус и косинус темной пряди,
дугообразно прикрывавшей ухо; но, быть может, больше всего его
мучила ее голая, белая, будто нежно-зернистая шея и те пределы
наготы, которые проводило то или иное платье. Был вечер, когда
он увидел коричневое пятнышко на ее руке. Был вечер, когда, при
случайном повороте ее стана, при случайном наклоне, он заметил
неясную теневую впадину, и почувствовал облегчение, когда серый
шелк лифа опять тесно облек ей грудь. И был вечер, когда она
собиралась на бал, и он был поражен тем, что у нее под мышками
бело, как у статуи. Она расспрашивала его о детстве, о матери,
о родном его городке. Как-то раз Том положил морду к нему на
колени и, зевнув, обдал его нестерпимым запахом -- не то
селедки, не то просто тухлятины. "Вот так пахнет от моего
детства",--тихо сказал Франц; она не расслышала или не поняла,
переспросила, но он не повторил. Он рассказывал ей о школе, о
пыли и скуке школьных будней и о том, как соседний мясник,
почтеннейший господин в белом жилете, приходил к ним в гости и
с отвратительным профессиональным видом ел баранину. "Почему
"отвратительно"?--удивленно перебивала Марта.--Вы же сказали,
что он вполне благовоспитанный".-- "Бог знает, что
мелю",--упрекал себя Франц и с механическим увлечением в сотый
раз описывал реку, теплые мостки, веселую купальню и канат, не
служивший для него границей.
языка, речь о пользе спорта и сладостную гнусавую музыку. Она
подробно рассказывала ему о последней кинематографической
новинке, об удаче Драйера в дни инфляции и о том, как выводить
фруктовые пятна. И в это время она думала: "Когда же он наконец
трогало, что ест он такой неуверенный, бестолковый, и что без
ее помощи он, пожалуй, не раскачается вовсе. Но понемногу
чувство досады начинало преобладать. Время уходило на пустяки,
как уходят на пустяки деньги, когда из-за железнодорожной
забастовки застреваешь в скучном городе. Смутная обида ей
шептала, что вот у ее сестры было уже три любовника, один за
другим, а у молоденькой жены Вилли Грюна -- два -- и зараз. Меж
тем ей шел тридцать пятый год. Пора, пора. Постепенно она
получила мужа, прекрасную виллу, старинное серебро,
автомобиль,-- теперь очередной подарок -- Франц. И все это было
не совсем так просто,-- какой-то был приблудный ветерок,
какая-то подозрительная нежность...
ночи поздней осенью, когда вдруг, откуда ни возьмись, проходит
теплое влажное дуновение, случайно задержавшийся вздох лета. Он
стоял, держась за рамы, потом высунулся, уныло выпустил длинную
слюну и прислушался, ожидая, чтоб шлепнулся плевок о панель. Но
он жил на пятом этаже и ничего не услышал. Тогда он окно
закрыл, выпил залпом,-- хоть пить не хотелось,---воды,
отдававшей мятным порошком, и опять лег. Он спохватился в эту
ночь, что знает Марту уже больше месяца, мучится невыносимо. И
на полупакостном, полувыспренном языке, на котором он сам с
собою говорил, Франц зашептал в подушку: "Будь, что будет...
Лучше изменить поприщу, нежели дать черепу лопнуть по швам. Я
завтра, завтра схвачу ее и повалю,-- на диван, на пол, на битую
посуду -- все равно..."
переменил белье и носки раньше, чем отправиться к ней.
Отправился. По дороге убеждал себя, что она несомненно его
любит, только не показывает, из гордости. И это жаль.
Склонилась бы к нему, как бы случайно, дотронулась бы щекой при
слепом совместном осматривании альбома. Тогда было бы легче. Но
тут он подтянулся и сказал себе: "Это слабость, не нужно
слабости"... Пусть она будет сегодня еще холоднее, чем
обычно,-- все равно,-- сегодня, сегодня, сегодня... Пока он
звонил у двери, мелькнула острая надежда, что может быть,
случайно, Драйер уже дома. Драйера не было дома.
как, вот сейчас, толкнет вон ту дверь, войдет в гостиную,
увидит ее в открытом сером платье, сразу обнимет, крепко, до
хруста, до обморока,-- так живо вообразил он это, что на
мгновение увидел впереди свою же удаляющуюся спину, свою
руку,-- вон там, в трех саженях отсюда -- открывающую дверь,--
а так как это было проникновение в будущее, а будущее не
дозволено знать, то он и был наказан. Во-первых, он зацепился о
ковер, у самой двери, и раскрыл дверь с размаху. Во-вторых,
гостиная была пуста. В третьих, когда Марта вошла, она
оказалась в бежевом платье, с закрытой шеей. В-четвертых, он
почувствовал такую знакомую, томную, жаркую робость, что дай
Бог держаться, как следует, говорить членораздельно,-- о другом
нельзя было и думать.
Предвкушая это, она не сразу села около него на диван,-- по
традиции включила радио, принесла серебряный ящичек с венскими
папиросами, посмотрелась в зеркало, изменив при этом -- как все






 Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий Куликов Роман
Куликов Роман Майер Стефани
Майер Стефани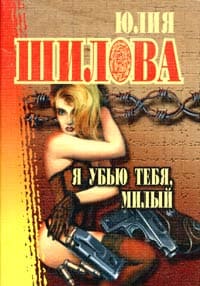 Шилова Юлия
Шилова Юлия Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Контровский Владимир
Контровский Владимир