углы комнаты, привела в порядок все вещи Франца, поставила
иначе стол и кресло, заметила, что все его носки -- рваные, на
всех подштанниках не хватает пуговиц,-- и сказала, что вообще
нужно украсить комнату,-- скатередки вышитые, что ли, да
непременно -- кушетку, да две-три ярких подушки. О кушетке она
напомнила старичку-хозяину, который тихо прогуливался взад и
вперед по коридору. Улыбаясь то ей, то Францу, потирая сухо
шелестящие ладони, он сказал, что как только супруга приедет,
будет и кушетка. И так как, по чести говоря, никакой кушетки
чинить он не давал (в пустом углу прежде стояло чужое пианино),
и так как, кроме того, старичок был холост,-- он с большим
удовольствием отвечал Марте. Да и вообще он был доволен жизнью,
этот серый старичок в домашних сапожках на пряжках,-- особенно
с тех пор, как открыл в себе удивительный дар--превращаться
вечерком, по выбору, либо в толстую лошадь, либо в девочку лет
шести, в матроске. Ибо на самом деле -- но это, конечно,
тайна,-- был он знаменитый иллюзионист и фокусник,
Менетекелфарес.
что чудаковат.
это все очень, очень хорошо. Этот тихий старик лучше, чем
какая-нибудь любопытная, болтливая карга. До завтра, мой
милый... А когда жена его приедет, мы просто найдем себе другую
комнату. Можешь поцеловать меня,-- только быстро...
тупиком, а другим концом выходила на небольшую площадь, где по
вторникам и пятницам расставлял свои лотки скромный рынок.
Оттуда растекались две улицы,-- налево -- кривой переулок, где
в дни политических торжеств торчали из окон грязно-красные
флаги; направо же -- длинная, людная улица, на которой, между
прочим, был магазин, где всякая вещь стоила пять грошей, будь
то пара подвязок или бюст Шиллера. Эта улица упиралась в
каменный портик, с белой буквой на синем стекле,-- конечная
станция подземной дороги. Там нужно было свернуть налево, по
бульвару, дальше дома обрывались, кое-где строилась вилла или
ширился зеленый пустырь, разделенный на огородики. Затем опять
дома,-- огромные, розовые, только что созданные. Марта
завернула за угол последнего из них и оказалась на своей улице.
Особнячок был в другом конце,-- недалеко от широкого проспекта,
где водились два вида трамвая, 113-ый и 108-ой, и один вид
автобуса.
и в это мгновение солнце, прокатившись по мягкому исподу
замшевых туч, нашло прореху и торопливо прорвалось. Деревца
вдоль тропы сразу вспыхнули мокрыми огоньками, и паутина
кое-где раскинула радужные спицы. Газон заискрился. Стеклянным
крылом блеснул пролетевший воробей.
сравнительной темноте поплыли румяные пятна. Дом был пуст; в
столовой -- еще не накрыто; в спальне, на ковре, на синей
кушетке,--аккуратно сложено солнце. Она стала переодеваться,
счастливо и нежно улыбаясь зеркалу.
легком темно-красном платье, чуть-чуть подкрашенная, с гладкими
висками, донесся к ней снизу лирический лай Тома, и затем --
громкий голос, показавшийся ей незнакомым. Сходя по лестнице,
она встретила на повороте чужого господина, который быстро
поднимался, посвистывая и ударяя стеком по балюстраде.
"Здравствуй, моя душа,-- сказал он, не останавливаясь,-- я
через десять минут буду готов".-- И последние две-три ступеньки
перейдя одним шагом, он весело крякнул, причем искоса посмотрел
вниз на ее уплывавший пробор. "Поторопись,-- сказала она, не
оглядываясь.--И, пожалуйста, чтобы от тебя не пахло манежем".
Наверху, с легким смехом, закрылась дверь.
особым, не то стеклянным, не то металлическим, звоном, присущим
человеческому питанию, Марта продолжала не узнавать хозяина
дома -- его подвижные подстриженные усы и манеру его быстро
кидать себе в рот то редиску, то кусочек булочки, которую он
мял на скатерти, пока говорил.
толстый Вилли Грюн, с румянцем во всю щеку, с тремя правильными
складками жира сзади, над воротничком; рядом с ним шумела его
мать, тоже тучная, тоже лупоглазая, говорившая скрипучим
голосом, который переходил в тряский клокочущий смех; а подле
старика блистала огнем длинных, длинных серег молодая госпожа
Грюн, напудренная до смертельной белизны, с
неестественно-узкими и дугообразными бровями; и между ними,
там, там, напротив Марты, скрываемый то мясистой георгиной, то
хрусталем, сидел, говорил, смеялся совершенно лишний,
совершенно чужой господин. Все, кроме этого господина, было
хорошо, приятно,--и гусь, удавшийся на славу, и тяжелый
добродушный профиль лысого Вилли, и разговор об автомобилях и
сальный анекдотец об охотничьем павильоне, сообщенный ей
вполголоса титулованным стариком. Ей казалось, что она сама
много говорит, а на самом деле, она все больше молчала, но
молчала так звучно, так отзывчиво, с такой живой улыбкой на
полуоткрытых блестящих губах, с таким светом в глазах,
подведенных нежной темнотой, что действительно казалась
необыкновенно разговорчивой. И Драйер, поглядывая на нее из-за
толстых розовых углов георгин, наслаждался ею, слушая
счастливую речь ее глаз, лепет ее поблескивавших рук,-- и
сознание, что она все-таки счастлива с ним, как-то заставляло
его забыть редкость и равнодушность ее ночных соизволений.
Францу в одну из ближайших встреч, когда он вдруг стал
добиваться у нее, любила ли она когда-нибудь мужа.
вместо ответа, скаля влажные зубы, медленно ущипнула его за
щеку. Франц обхватил ее ноги и смотрел на нее снизу вверх и
слегка поводил головой, стараясь захватить в рот ее пальцы. Уже
одетая, готовая к уходу и все не решавшаяся уйти, она сидела в
плетеном кресле, а он ежился на коленях перед ней,
растрепанный, в мигающих очках, в новых белых подтяжках. Только
что он переобул ей ноги,-- она носила, пока была у него, ночные
туфельки с пунцовыми помпончиками, и эти туфельки (его
скромный, но продуманный подарок) оставались у него в верхнем
отделении ночного столика и вынимались оттуда, как только она
возвращалась. Да и вообще вся комната несомненно похорошела. На
столе в синей вазе с одним продолговатым бликом розовели три
георгины. Появилась кружевная скатередка,-- а скоро должна была
въехать кушетка, и для нее Марта уже приобрела две павлиньего
цвета подушки. В целлулоидовой коробочке на умывальнике лежало
любимое мыло Марты,-- бледно-коричневое, пахнущее фиалкой.
Белье в ящиках было пересмотрено, пересчитано, на новых
подштанниках красовались четкие метки, два новых галстука,
темный и светлый, висели на веревочке с внутренней стороны
шкапной дверцы. И был один медленно назревающий, упоительнейший
проект: -- смокинг!
диплома, которым можно гордиться. Весь день его разбирало
желание кому-нибудь показать диплом. В четверть восьмого
(Пифке, думая угодить хозяину, отпускал его чуть раньше
других), он запыхавшись, влетал к себе в комнату. Через
несколько минут являлась Марта. В четверть девятого она
уходила. А в без четверти девять Франц отправлялся ужинать к
дяде.
кровью были налиты жилы, а вот этим счастьем, бьющимся в кисти,
в виске, стучащим в грудь, выходящим из пальца рубиновой
капелькой, если уколет случайная булавка; а с булавками ему
приходилось много иметь дела в магазине,-- и благо еще, что был
он в таком отделе, где не приходилось с булавками во рту
хариусом виться вокруг беспокойного господина в одноруком,
испещренном наметками, исчерченном медом пиджаке. Но вообще
руки у него стали проворнее, он не ронял легких картонных
крышек, как в первые дни. И эти быстрые прилавочные упражнения
как бы готовили его руки к другим, тоже быстрым, тоже легким
движениям, пронзительно волнующим Марту, ибо его руки она
особенно любила, и больше всего любила их тогда, когда
скорыми, как бы музыкальными прикосновениями они снимали с нее
платье и пробегали по ее молочно-белой спине. Так, прилавок был
немой клавиатурой, на которой Франц репетировал счастье. Зато,
как только она уходила, как только приближался час ужина, и
надо было встретиться с Драйером,-- все менялось. Как иногда,
во сне, безобиднейший предмет внушает нам страх и уже потом
страшен нам всякий раз, как приснится,--и даже наяву хранит
легкий привкус жути,-- так присутствие Драйера стало для Франца





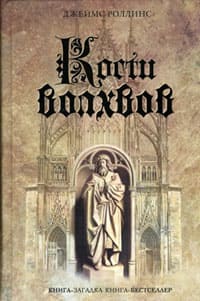
 Трубников Александр
Трубников Александр Никитин Юрий
Никитин Юрий Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий Верещагин Олег
Верещагин Олег Флинт Эрик
Флинт Эрик