шум, все хохотали, орали,-- вероятно толпясь вокруг Драйера,
тиская его, тиская... Прижав платок к губам, Франц кинулся в
переднюю, рванул дверь уборной. Оттуда огромной бомбой вылетела
старуха Грюн и исчезла за поворотом стены. "Боже мой, Боже
мой",-- приговаривал он, согнувшись вдвое,-- и потом, глубоко
дыша, брезгливо вытирая рот, пошел медленно обратно. В гостиной
он остановился. Зловеще горела широкая елка. Там, дальше,
продолжался захлебывающийся шум голосов, ревел граммофон. Вдруг
он увидел Марту.
дурном сне, пылала электрическая елка. Они были одни в яркой
гостиной, а там, за дверью, был шум, гогот, кто-то кричал
петухом. -- Сорвалось,-- сказала Марта.
сзади,-- так все кружилось. Он спросил, плечом касаясь
шуршавшей хвои: -- Что сорвалось?
припадков лающего кашля,--...не могу... И посмотри на себя: ты
бледен, как смерть...
эта огромная елка орет всеми своими лампочками. -- ...Как
смерть,-- сказала Марта и закашлялась. Он опять почувствовал
прилив тошноты; шум голосов хлынул, Драйер, с топотом, потный,
хохочущий, спасаясь от Грюна и инженера, промчался мимо, за
ними другие,-- все кричало, гудело, стонало,-- и этот хищный
шум не умолк в ту ночь; он последовал наутро за Францем,
окружал его потом и на улице, и дома, и во сне, и опять наяву.
Как будто прорвались в мозгу тайные шлюзы, шумящая темнота
помчала, закружила его. И пока он боролся, было еще страшно,--
но когда он решился и отдался ревущему бреду -- все стало так
легко, так странно, почти сладостно.
тепло, было мокро, всюду большие лужи, полные рябого неба. К
вечеру во всех окнах зажглись елки,--и прошла какая-то женщина
в маске рождественского деда, с ватной бородой,-- и раздавала
какие-то объявления. Он шел и никак не мог сообразить, вчера ли
был этот бал у Драйера или третьего дня. Но Марты он с тех пор
не видел; значит, должно быть,-- вчера. Он прислушался. Да, шум
был тут как тут,-- но уже ровный, понятный, признанный. "Я
больше не могу". Да, она права. Все будет так, как она решит.
бросился к дому. Никогда бы он нынче не пошел сюда, если б не
совершенно непреодолимое желание увидеть Марту.
лыж. В холле друг против друга стояли Драйер и Марта. Он
смеялся и быстро говорил; она молча кивала.
за пуговицу.-- Вот это кстати. Я уезжаю недельки на три.
что Драйер перестал быть страшен ему. -- Да лыжи. Я еду в
Давос. Он посмотрел на жену и рассмеялся:
Вот, Франц поведет тебя в театр. Право, моя душа, не сердись,
что я тебя не беру. Снег только для мужчин. Этого не изменишь.
посмотрел на часы, кивнул и стал торопливо прощаться. Горничная
прибежала сказать, что таксомотор ждет у калитки. Они все вышли
в сад. Капало. Марта, без шляпы, в кротовом пальто, шла,
покачивая бедрами, соединив рукава. Довольно долго устраивали
на крыше автомобиля длинные лыжи. В сторонке Том поедал навоз.
Наконец, захлопнулась дверца. Таксомотор двинулся. Франц вяло
отметил номер: 22221. Эта неожиданная единица после стольких
двоек была странная. Они медленно пошли назад к дому по
хрустящей тропе.
совсем мягко. Франц подумал и сказал: "Да; но еще будет
холодно".
будто они вернулись с похорон.
в начале, и спотыкаясь, и путаясь, он постепенно начинал
понимать то, что, почти без слов, почти только мимикой, она
внушала ему. Он прислушивался и к ней, и к завывающему звуку,
который постоянно, то громче, то тише, ему сопутствовал,-- и
уже чуял в этом звуке ритмическое требование, и смысл, и
правильность. То, чего хотела от него Марта, оказывалось таким
простым... Почувствовав, что он это усвоил, она молча кивала, с
пристальной улыбкой глядя вниз, как будто следя за движением и
ростом уже отчетливой тени. Неловкость, стыд, то чувство
горбатости, которое было сперва,-- все это скоро пропало; зато
прямая, стройная, но искусственная поступь, которой она учила
его, поработила его всецело; он уже не мог не слушаться
разгаданного звука. Головокружение стало для него состоянием
привычным и приятным, автоматическая томность -- законом
естества; и Марта уже улыбалась, уже прижималась виском к его
виску, зная, что он с ней заодно, что он сделает так, как
нужно. Уча его, она сдерживала свое нетерпение, нетерпение,
которое он уже раз подметил в мелькании ее нарядных ног. Она
теперь, стоя перед ним и двумя пальцами подтянув юбку,
медленно, как в задержанном кинематографе, повторяла эти
движения, чтобы он понял их, медленно переступала, поворачивала
носок. Когда же, под напором ее ладони, он научился кружиться,
когда, наконец, его шаги стали отвечать ее шагам, когда в
зеркале она мимоходом заметила не кривой урок, а гармонический
танец, тогда она ускорила размах, дала волю нетерпеливому
волнению и сурово порадовалась его послушной быстроте.
окруженных ложами; он облокачивался на вялый бархат барьера; он
видел себя и Марту в пресыщенных зеркалах; он платил из ее
шелкового кошелька лощеным, хищным лакеям; его макинтош и ее
кротовое пальто часами обнимались в тесном сумраке нагруженных
вешалок, под охраной позевывающих гардеробщиц; и все звучные
названия модных зал и кафе,-- тропические, хрустальные,
королевские,--стали ему так же знакомы, как названия улиц в том
городке, где он когда-то жил наяву.
рядом на сизой кушетке, в его тихой комнатке.
тебе хорошо, что ты веселишься. Подумай, как потом... после...
она будет удивлена... Он спросил:
срок?
подушки, заломив руки:
милый...
пугает. Эти обои, люди на улицах, мой хозяин... Его жена
никогда не показывается. Это странно.
не выйдет. Поди сюда...
ней.-- Но только нужно действовать наверняка. Малейший
промах...
найти верный способ...
ритм...
а танцевали, в озаренном пространстве между беле-. ющих
столиков, в кружащемся кафе. Оркестр играл, захлебываясь. Среди
танцующих был рослый негр.
музыке, продолжала Марта.--Ведь мы в своем праве...
прикрывающую ухо... если б можно было так всегда,-- не
отрываясь от нее, скользить... Но был магазин, где он, как
веселая кукла, кланялся, вертелся; но были ночи, когда он, как
мертвая кукла, лежал навзничь в постели, не зная, спит ли он
или бодрствует; -- и кто это шаркает и шепчет в коридоре,--и




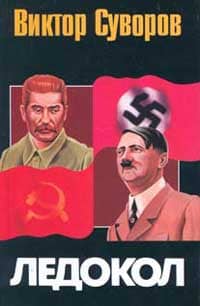
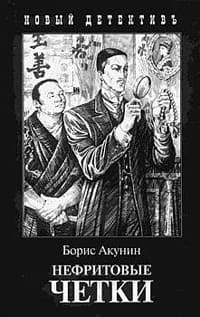
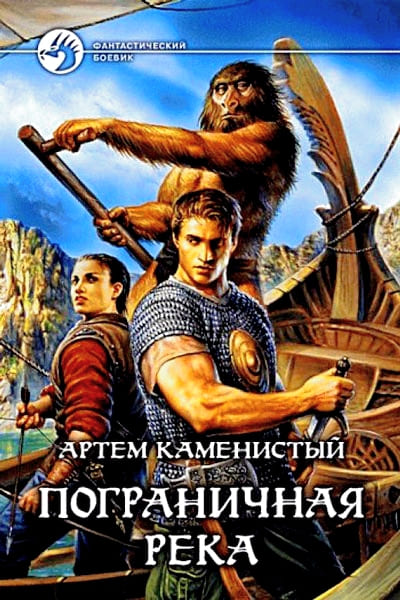 Каменистый Артем
Каменистый Артем Шилова Юлия
Шилова Юлия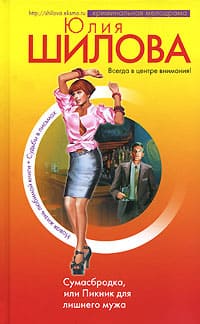 Шилова Юлия
Шилова Юлия Сапковский Анджей
Сапковский Анджей Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс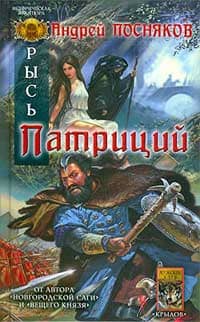 Посняков Андрей
Посняков Андрей