который, опустив стекло, звал носильщика. На мгновение он
пожалел, что расстается навсегда с той прелестной, большеглазой
дамой. Вместе с торопливой толпой он быстро пошел по длинной,
длинной платформе, дрожащей рукой отдал контролеру билет и,
мимо бесчисленных касс, реклам, расписаний, низких прилавков
для багажа, вышел на волю.
Опять -- пробуждение, но, быть может, пробуждение еще не
окончательное? Так бывает; очнешься и видишь, скажем, будто
сидишь в нарядном купе второго класса, вместе с неизвестной
изящной четой,-- а на самом деле это -- пробуждение мнимое, это
только следующий слой сна, словно поднимаешься со слоя на слой
и все не" можешь достигнуть поверхности, вынырнуть в явь.
Очарованная мысль принимает, однако, новый слой сновидения за
свободную действительность: веря в нее, переходишь, не дыша,
какую-то площадь перед вокзалом и почти ничего не видишь,
потому что ночная темнота расплывается от дождя, и хочешь
поскорее попасть в призрачную гостиницу напротив, чтобы
умыться, переменить манжеты и тогда уже пойти бродить по
каким-то огнистым улицам. Но что-то случается, мелочь, нелепый
казус,-- и действительность теряет вдруг вкус действительности;
мысль обманулась, ты еще спишь; бессвязная дремота глушит
сознание; и вдруг опять прояснение: смутный золотистый свет и
номер в гостинице, название которой "Видзо" -- написал тебе на
листке знакомый лавочник, побывавший в столице. И все-таки,--
кто ее знает, явь ли это. Окончательная явь, или только новый
обманчивый слой?
сощуренными глазами посмотрел на дымчатый потолок и потом в
сторону--на сияющий туман окна. И чтобы высвободиться из этой
золотистой смутности, еще так напоминавшей сновидение,-- он
потянулся к ночному столику, нащупывая очки.
бумажке, в которую они были завернуты, Франц вспомнил ту
мелочь, тот нелепый казус... Войдя вчера в номер, осмотревшись,
распахнув окно, за которым, однако, он увидел, вместо
воображаемых огней, только темный двор и темное шумящее дерево,
он содрал грязный, томивший шею воротник и, спеша, принялся
мыть лицо. Очки он положил рядом с тазом, на доску умывальника,
с краю. Умывшись, он поднял таз, чтобы вылить его в ведро, и
столкнул очки на пол. Одновременно он неловко шагнул в сторону,
держа перед собой тяжелый, бушующий таз, и под каблуком зловеще
хрустнуло.
отдать очки в починку; стекло, да и то треснувшее, осталось
только в одной окружности. Мысленно он уже вышел из дому и
бродил в поисках нужного магазина. Сперва -- магазин, потом
важное, страшноватое посещение. И вспомнив, как мать
настаивала, чтобы этот визит он сделал в первое же утро по
приезде ("...это будет как раз такой день, когда делового
человека можно застать..."), Франц вспомнил и то, что
нынче--воскресенье.
без очков он все равно, что слепой, а нужно пуститься в
опаснейший путь, через незнакомый город. Он вообразил хищные
призраки автомобилей, которые вчера, на месте погрохатывая,
теснились у вокзала, когда он, еще зрячий, но отуманенный сырой
ночью, переходил площадь к гостинице. Так он и лег, не
прогулявшись, не познакомившись со столицей в самую пору ее
ночного сверкающего роения.
предметов, без дел дожидаясь понедельника, когда какой-нибудь
магазин с вывеской в виде огромного синего пенсне наконец
откроется,--это было немыслимо. Франц откинул перину и босиком,
осторожно прошлепал к окну. День был голубой, нежный, на диво
солнечный; слева наползала бархатистая тень, и невозможно было
понять, где кончается тень и где начинается
расплывчато-оранжеватая листва дерева, заполнявшего двор. И
было тихо-тихо, будто в осенней, погожей деревенской глуши.
гул человеческих мыслей, гром отодвигаемого стула, под которым
давно прячется от близоруких глаз необходимый ботинок, плеск
воды, звон мелких монет, сдуру выпавших из кармана увертливого
жилета; тяжелый, неохотный шорох чемодана, проехавшегося по
полу в дальний угол, где уж не будет опасности опять об него
споткнуться,-- и казалось так шумно в комнате именно по
сравнению с той солнечной, поразительной тишиной, хранимой, как
дорогое вино, в холодной глубине двора.
шарахнулся от зеркала, в которое чуть было не вошел, и шагнул к
двери. Только его лицо так и осталось неодетым. Осторожно сойдя
вниз, он швейцару показал адрес на бесценной визитной карточке,
и тот объяснил ему, в какой сесть автобус и где его ждать.
струящееся сияние. Очертаний не было; как снятое с вешалки
легкое женское платье, город сиял, переливался, падал чудесными
складками, но не держался ни на чем, а повисал, ослабевший,
словно бесплотный, в голубом сентябрьском воздухе. За
ослепительной пустыней площади, по которой изредка с криком,
новым, столичным, промахивал автомобиль, млели розоватые
громады, и вдруг солнечный зайчик, блеск стекла, мучительно
вонзался в зрачок.
остановки, неясный и зыбкий, как столб купальни, когда ныряешь
под сваи, и сразу тяжелым, желтым миражем надвинулся автобус.
Франц, наступив на чью-то мгновенно растаявшую ногу, схватился
за поручень, и голос -- очевидно кондукторский -- гаркнул ему в
ухо: "наверх!" Впервые ему приходилось карабкаться по эдакой
кружащейся лесенке,-- в родном городке ходил только трамвай,--
и, когда автобус рванул, он едва не потерял равновесия, увидел
на мгновение асфальт, поднявшийся серебристой стеной, удержался
за чье-то плечо и, следуя силе какого-то неумолимого
поворота,-- при котором, казалось, автобус весь накренился,--
взмыл через последние ступеньки и оказался наверху. Он с
размаху сел на скамейку и в беспомощном негодовании стал
озираться. Он плыл высоко-высоко над городом. Внизу, по улице,
как медузы, скользили люди, среди внезапно замершего
автомобильного студня,-- потом все это опять двигалось, и
смутно-синие дома по одной стороне, солнечно-неясные -- по
другой текли мимо, как облака, незаметно переходящие в нежное
небо. Такой представилась Францу столица,--
призрачно-окрашенной, расплывчатой, словно бескостной, ничуть
не похожей на его грубую провинциальную мечту.
перекликались гудки, внезапно пахнуло прелой листвой... и одна
смутноватая ветка чуть не задела Франца. Погодя, он спросил у
кондуктора, где ему вылезать; оказалось, что еще не скоро. Он
принялся считать остановки, чтобы лишний раз не спрашивать,--и
мучительно старался различить улицы, по которым проезжал.
Быстрота, воздушность, запах осени, головокружительная
зеркальность того, что плыло мимо,-- все сливалось в ощущение
бесплотности, которое было так необыкновенно, что Франц нарочно
дергал шеей, чтобы чувствовать твердую головку запонки,
казавшуюся ему единственным доказательством его бытия.
вступил на тротуар. Кто-то в уплывающих небесах,-- быть может
незамеченный сосед -- крикнул ему: "Направо! Первый поворот
напра...", Франц вздрогнул и, дойдя до угла, повернул. Тишина,
и безлюдность, и солнечная зыбкость... Он терялся, таял в этой
смутности, а главное, никак не мог найти номера на домах. Он
вспотел и ослаб. Наконец, завидя туманного прохожего, он
подошел к нему, спросил, где пятый номер. Прохожий стоял совсем
близко, и так странно падала лиственная тень на его лицо, и так
все было смутно, что Францу вдруг показалось, что человек--тот
самый, от которого он вчера бежал. Почти наверное можно
сказать, что это была лишь световая пятнистость, прихоть
теней,--однако Францу стало так гадко, что он предпочел отвести
глаза. "Прямо напротив,-- где ограда",-- бодро сказал человек и
пошел своей дорогой.
кнопку звонка и нажал на нее. Калитка издала странный жужжащий
звук. Франц подождал немного и позвонил опять. Калитка опять
зажужжала. Никто не приходил открывать. За калиткой был
зеленоватый туман сада, и в нем плавал дом, как неясное
отражение в воде. Франц попробовал сам открыть калитку, но она
заартачилась. Кусая губы, он позвонил снова и долго держал
палец на кнопке. Однообразное жужжание. Вдруг сообразив, в чем



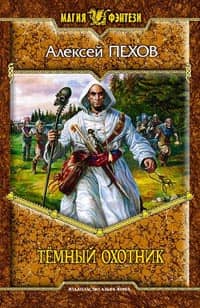

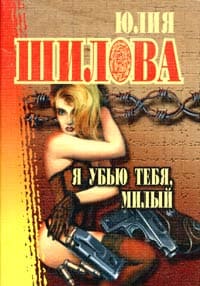
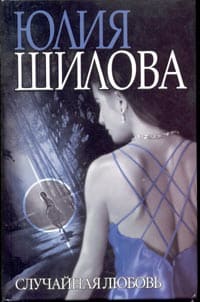 Шилова Юлия
Шилова Юлия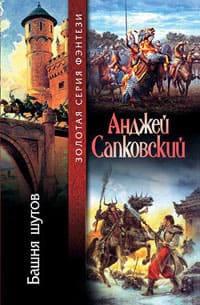 Сапковский Анджей
Сапковский Анджей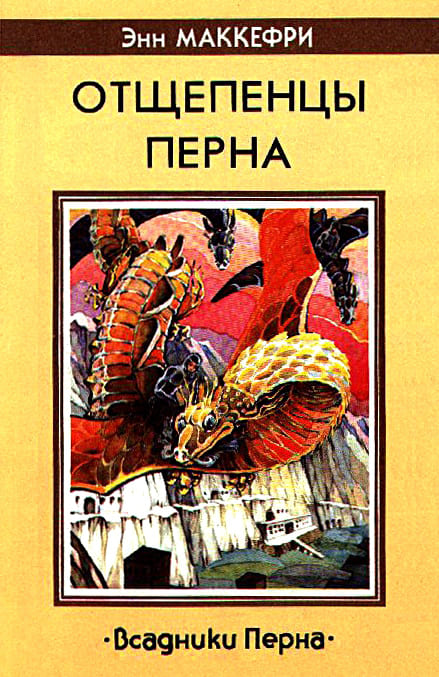 Маккефри Энн
Маккефри Энн Суворов Виктор
Суворов Виктор Березин Федор
Березин Федор Елманов Валерий
Елманов Валерий