"хляп-хляп-хляп".
груди руки и оперлась вытянутой ногой в приборную доску. Я
вылез, осмотрел правое заднее колесо. Нижняя половина несчастной
шины приняла отвратительно прямоугольную форму. Трапп
остановился в пятидесяти ярдах позади нас. На этом расстоянии
лицо его было лишь сальным пятном, но пятно смеялось. Я решил
воспользоваться случаем и направился к нему - с блестящей идеей
занять у него рычаг, хотя у меня был свой. Он немного попятился.
Я больно споткнулся об камень - и создалась атмосфера повального
веселья. Тут колоссальный грузовик вырос за машиной Траппа и с
громом проехал мимо меня, после чего я услышал, как он судорожно
гукнул. Я невольно обернулся - и увидел, что мой автомобиль
медленно уползает. Издали я различил головку Лолиты, нелепо
сидевшей за рулем, причем мотор работал, хотя я помнил, что
выключил его.
потребовавшегося мне, чтобы добежать до хлюпающей и наконец
остановившейся машины, я успел подумать, что в течение двух лет
моя малютка вполне имела возможность набраться элементарных
знаний в области управления автомобилем. Яростным рывком я
открыл дверцу. Мне было чертовски ясно, что она пустила мотор,
чтобы отвлечь меня от господина Траппа. Впрочем, этот фортель
оказался ненужным, ибо, пока я догонял ее, Трапп круто повернул
посредине дороги и укатил. Я посидел, перевел дух. Лолита
спросила, не скажу ли я спасибо ей за то, что она так ловко
затормозила, когда автомобиль вдруг поехал под гору. Не получив
ответа, она погрузилась в изучение дорожной карты. Я вышел из
автомобиля и начал "колесование(TM), как называла эту операцию
покойная Шарлотта. Мне казалось, что я теряю рассудок.
После унылого и совершенно лишнего спуска дорога стала
подниматься петлями все выше и выше. В особенно крутом месте нам
пришлось плестись за громадным грузовиком, давеча обогнавшим
нас. Он теперь с ужасными стонами полз вверх по извивам дороги,
и его невозможно было объехать. Из его кабинки выпорхнул кусочек
гладкого серебра - внутренняя обертка жевательной резинки - и,
полетев назад, прилип на миг к нашему переднему стеклу. Мне
пришло в голову, что, ежели я действительно схожу с ума, может
кончиться тем, что я убью кого-нибудь. На всякий случай (сказал
тот Гумберт, который сидел на суше, тому Гумберту, который
барахтался Бог знает где) хорошо бы кое-что подготовить -
например, перевести пистолет из коробки в карман, - дабы быть
готовым воспользоваться свободой безумия, когда оно найдет.
допустил (влюбленный простак!), чтобы она научилась всем
изощрениям обмана. Как теперь выяснялось, дело не ограничивалось
готовыми ответами на такие вопросы, как: что представляет собой
основной конфликт в "Гедде Габлер"; или: в каких сценах "Любви
под Ильмами" предельно нарастает действие; или: в чем состоит
преобладающее настроение "Вишневого Сада"; на самом деле ей
преподавались разные способы изменять мне. О, с каким
негодованием я теперь вспоминал ту задаваемую ей "симуляцию пяти
чувств", в которой она так часто упражнялась в нашей
бердслейской гостиной! Я устраивался так, чтобы незаметно
наблюдать за ней, когда она, двигаясь как субъект под гипнозом
или участник мистического ритуала, и как бы давая утонченную
версию детской игры, в которой девочки воображают себя дивами,
изображала мимикой, что бы она сделала, услыхав стон в темноте,
увидав впервые совсем новенькую молодую мачеху, проглотив
что-нибудь невкусное, вроде желтоватого желе, понюхав
раздавленный сочный пучок травы в плодовом саду или дотронувшись
до того или другого несуществующего предмета хитрыми, тонкими
пальцами нимфетки. Среди моих бумаг до сих пор сохранился
мимеографический список следующих заданий.
держишь пинг-понговый мячик, яблоко, липкий финик, новый
пушисто-фланелевый теннисный мяч, горячую картофелину, ледяной
кубик, котенка, подкову, карманный фонарь цилиндрической формы.
хлебный мякиш, резинку, ноющий висок близкого человека, образец
бархата, розовый лепесток.
людей: Греческого юношу; Сирано-де-Бержерака; Деда Мороза;
младенца; хохочущего от щекотки фавна; спящего незнакомца;
собственного отца".
нежных чар, и при мечтательном исполнении других волшебных
обязанностей! Кроме того, иногда, в особенно предприимчивые
бердслейские ночи, я обещал ей какоенибудь удовольствие или
подарок, если она потанцует для меня, и, хотя ее рутинные скачки
с раскинутыми ногами не столько напоминали томные и вместе с тем
угловатые движения парижских petits rats, сколько прыжки тех
голоногих дивчин в коротеньких юбках и толстых свитерах, которые
организованными воплями и гимнастическим беснованием поощряют
студентов, играющих в американское регби, все же ритмика ее не
совсем еще развившихся членов очень нравилась мне. Но все это
было ничто, по сравнению с неописуемым зудом наслаждения,
который я испытывал от ее теннисной игры: могу только сказать,
что это было дразнящее, бредовое ощущение какого-то повисания на
самом краю - нет, не бездны, а неземной гармонии, неземной
лучезарности.
была нимфеткой в своей белой теннисной одежде, с абрикосовым
загаром на руках и ногах. Крылатые заседатели! Никакой загробной
жизни не принимаю, если в ней не объявится Лолита в таком виде,
в каком она была тогда, на колорадском курорте между Сноу и
Эльфинстоном - и, пожалуйста, чтобы все было так же правильно,
как тогда: 'широкие, белые мальчишеские трусики, узенькая талия,
абрикосовая голая поясница, белый грудной платок, ленты которого
идут наверх, кругом шеи, кончаясь сзади висячим узлом и оставляя
неприкрытой ее до безумия молоденькие и обаятельные лопатки с
этим абрикосовым пушком на них, и прелестные нежные косточки и
гладкую, книзу суживающуюся спину! Ее кепка была с белым
козырьком. Ее ракета обошлась мне в небольшое состояние. Дубина,
стоеросовая дубина! Ведь я мог бы заснять ее на кинопленке! Она
бы тогда осталась и посейчас со мной, перед моими глазами, в
проекционной камере моего отчаяния!
как бы делала передышку, выстаивая два-три такта за меловой
чертой, и при этом, бывало, разок-другой бросит мяч об землю или
носком белой туфельки поскребет по грунту, всегда свободно
держась, всегда оставаясь спокойно-веселой - она, которая так
редко бывала веселой в ее сумрачной домашней обстановке!
По-моему, ее теннисная игра представляла собой высшую точку, до
которой молодое существо может довести сценическое искусство,
хотя для нее, вероятно, это составляло acero лишь геометрическую
сущность основной действительности жизни.
дополнение в чистом, тугом звоне каждого ее удара. Войдя в ауру
ее власти, мяч делался белее, его упругость становилась
качественно драгоценнее. Прецизионный инструмент, который она
употребляла по отношению к нему, казался в миг льнущего
соприкосновения необычайно цепким и неторопливым. Скажу больше:
ее стиль был совершенно точной имитацией самого что ни на есть
первоклассного тенниса, лишенной, однако, в ее руках какихлибо
практических результатов. Как мне сказала Электра Гольд, сестра
Эдузы, изумительная молодая тренировщица, когда однажды я сидел
на твердой скамейке, начинавшей пульсировать подо мной, и
смотрел, как Долорес Гейз, как бы шутя, гоняла по всему корту
хорошенькую Линду Голль (которая, впрочем, побила ее): "У вашей
Долли вделан магнит для мяча в самую середку ракетных жил, но,
ейБогу, зачем быть такой вежливенькой?" Ах, Электра, не все ли
равно - при такой грации! Помнится, присутствуя при первой же их
игре, я почувствовал, как усвоение этой красоты меня буквально
облило едва выносимым содроганием. У моей Лолиты была чудная
манера чуть приподымать полусогнутую в колене левую ногу при
раскидистом и пружинистом начале сервисного цикла, когда
развивалась и на мгновение натягивалась в лучах солнца живая
сеть равновесия между четырьмя точками - пуантой этой ноги, едва
опушенной подмышкой, загорелой рукой и далеко закинутым назад
овалом ракеты, меж тем как она обращала блестящий оскал
улыбающегося рта вверх к маленькой планете, повисшей так высоко
в зените сильного и стройного космоса, который она сотворила с
определенной целью - напасть на него звучным хлестком своего
золотого кнута. Ее подача отличалась прямотой, красотой,



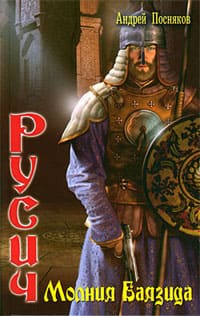

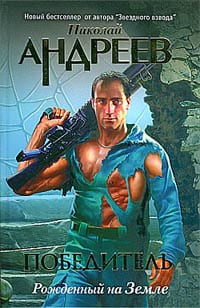
 Посняков Андрей
Посняков Андрей Шилова Юлия
Шилова Юлия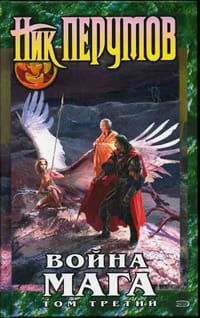 Перумов Ник
Перумов Ник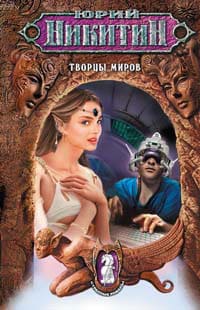 Никитин Юрий
Никитин Юрий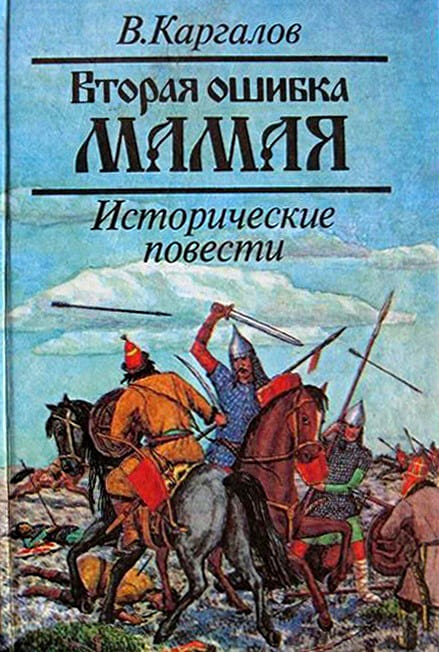 Каргалов Вадим
Каргалов Вадим Маккарти Кормак
Маккарти Кормак