каким-то новым, истерически ясным голосом вдруг стал
рассказывать, что однажды в молодости, выпив первый в жизни
стакан хазеля, согласился пойти с товарищем в публичный дом, и
только потому не пошел, что упал на улице в обморок. Это свежее
и непредвиденное признание вызвало в зале долго не смолкавший
смех, а прокурор, потеряв голову, попытался зажать рот
подсудимому. Затем присяжные, молча покурив в отведенной им
комнате, вернулись, и приговор был объявлен. Доктору Онзе
предлагалось тринадцать с половиной лет каторжных работ.
свиданиях друзья жали руки мученику, прощаясь с ним... Но тут,
впервые в жизни, неожиданно для всех и, может быть, для самого
себя, старый Гафон поступил довольно остроумно: пользуясь своим
неоспоримым правом, он доктора Онзе помиловал.
чему, в сущности, не привели. Оставался третий --
решительнейший и вернейший. Все, что говорилось в окружении
Гумма, было исключительно направлено к тому, чтобы эту
последнюю меру осуществить, хотя настоящее ее имя, по-видимому,
не называлось: эвфемизмов у смерти достаточно. Кр., попавший в
сложную конспиративную обстановку, не отдавал себе отчета в
том, что происходит, и причиной этой слепоты была не только
неопытность молодости, так вышло еще и потому, что, невольно (и
совершенно ложно) считая себя зачинщиком (т. е. вовсе не
догадываясь, что он в действительности только почетный фигурант
-- или почетный заложник), Кр. никак не мог допустить мысль,
что начатое им дело окончится кровью,-- да дела в настоящем
смысле и не было, ибо, с отвращением изучая жизнь принца, Кр.
смутно полагал, что тем самым он у же совершает нечто важное и
нужное,-- и когда, с течением времени, ему несколько прискучили
это изучение и постоянные разговоры все о том же, он, однако,
принимал в них участие, добросовестно держался опостылевшей
темы, все продолжая считать, что исполняет свой долг и
содействует какой-то не очень ясной ему силе, которая в конце
концов волшебно превратит невозможного принца в приемлемого
наследника. Если и случалось ему думать, что хорошо бы Адульфа
заставить просто отказаться от престола (а иносказания,
вероятно употреблявшиеся заговорщиками, могли невзначай принять
и такую форму), то этой мысли он, как ни странно, не доводил до
конца -- до себя. В продолжение почти двух лет промеж
университетских занятий постоянно общаясь с круглым Гуммом и
его друзьями, он незаметно для себя запутался в очень тонкой и
частой сети,-- и может быть, принудительная скука, им
ощущавшаяся все яснее, была не простой неспособностью (впрочем,
свойственной его природе) долго заниматься вещами, постепенно
обрастающими покровом привычки, за которым он уже не различал
лучей их страстного возрождения, а была намеренно измененным
голосом подсознательного предупреждения. Между тем начатое
задолго до его участия дело уже приближалось к своей красной
развязке.
сборище, и так как в этом приглашении ничего необычного не
было, он туда и явился. Правда, ему вспоминалось потом, с какой
неохотой, с каким тяжелым ощущением навязанности он отправлялся
на сходку; но с такими же чувствами он приходил и раньше. В
большой, нетопленой и как бы условно обставленной комнате
(обои, камин, буфет с пыльным пивным рогом на полке -- все
казалось бутафорией) сидело человек двадцать мужчин, из которых
он не знал и половины. Тут в первый раз он увидел доктора Онзе:
мраморная лысина с впадиной посредине, густые светлые ресницы,
мелкие рябины над бровями, рыжеватый оттенок скул, плотно
сжатые губы, сюртук фанатика и глаза рыбы. Застывшее выражение
покорности и просветленной печали не украшало его неудачных
черт. К нему обращались с подчеркнутым уважением. Все знали,
что после процесса невеста с ним разошлась, сославшись на то,
что вопреки рассудку она все продолжает видеть на лице
несчастного след марких пороков, в которых он за другого
признался. Она скрылась в дальнюю деревню, где всецело ушла в
школьное дело, а сам доктор Онзе вскоре после события, которому
это заседание предшествовало, удалился в небольшой монастырь.
Шлисса, нескольких фрадских депутатов пеплерхуса, сына министра
просвещения... На кожаном диване неудобно поместились три
долговязых и мрачных офицера.
которого ютился маленький, особняком державшийся человек с
простоватым лицом, вертевший в руках фуражку почтового
ведомства. Кр., близко к нему сидевшего, поразили его
громадные, грубо обутые ноги, совершенно не шедшие к его мелкой
фигуре, так что получалось нечто вроде в упор снятой
фотографии. Только потом он узнал, что этот человек был Сиен.
теми же разговорами, к которым он уже привык. Что-то в нем
(опять--внутренний друг!) даже захотело с какой-то детской
горячностью, чтобы это сборище не отличалось ото всех
предыдущих. Но странный, противный жест Гумма, вдруг мимоходом
положившего ему руку на плечо и загадочно кивнувшего,
сдержанное, как бы замедленное звучание голосов, глаза
офицеров, сидевших поодаль, заставили его насторожиться. Не
прошло и двух минут, как он уже понимал, что в этой бутафорской
комнате холодно разрабатывается уже решенное убийство принца.
физическую, тошноту, которую однажды испытал на вечере у
двоюродного брата. По тому, как молчаливый человечек на
подоконнике взглянул на него (с любопытством, с насмешкой), Кр.
понял, что его замешательство заметно. Он встал, и тогда все
повернулись в его сторону, и ежом остриженный, тяжелый, толстый
человек, осыпанный перхотью и пеплом, говоривший в эту минуту
(Кр. давно уже не слышал слов), осекся. Он подошел к Гумму,
который выжидательно поднял треугольные брови. "Должен уйти,--
сказал Кр.,-- мне нездоровится,-- думаю, что мне лучше уйти".
Он поклонился, кое-кто вежливо приподнялся, человечек на
подоконнике улыбаясь закурил трубку. Приближаясь к двери, Кр. с
кошмарным чувством думал о том, что она может быть нарисована,
что ручка нарисована тоже, что отворить ее нельзя. Но вдруг она
превратилась в настоящую дверь, и, сопутствуемый каким-то
юношей со связкой ключей, тихо вышедшим в ночных туфлях из
другой комнаты, он спустился по длинной и темной лестнице.



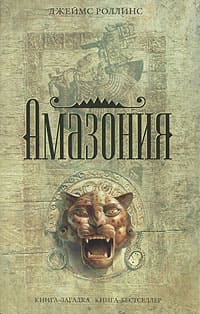

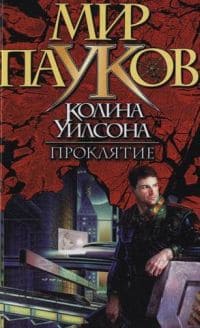
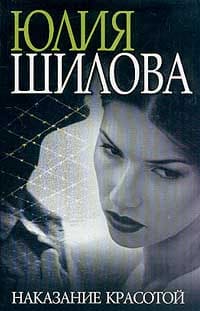 Шилова Юлия
Шилова Юлия Акунин Борис
Акунин Борис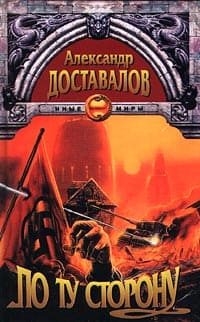 Доставалов Александр
Доставалов Александр Пехов Алексей
Пехов Алексей Гуревич Георгий
Гуревич Георгий Верещагин Олег
Верещагин Олег