-- уже не так цепко держа его за пальцы, уже рассеянно выпуская
их, -- Эммочка ввела его в столовую, где, за освещенным
овальным столом, все сидели и пили чай. У Родрига Ивановича
салфетка широко покрывала грудь; его жена -- тощая,
веснушчатая, с белыми ресницами -- передавала бублики м-сье
Пьеру, который нарядился в косоворотку с петушками; около
самовара лежали в корзинке клубки цветной шерсти и блестели
стеклянные спицы. Востроносая старушка в наколке и черное
мантильке хохлилась в конце стола.
потекло.
проговорила директорша.
произнес Родриг Иванович. -- Не говоря о том, что это против
всяких правил!
Ведь они оба дети.
проговорила директорша.
за стол и, навсегда забыв Цинцинната, принялась посыпать
сахаром, сразу оранжевевшим, лохматый ломоть дыни, в который
затем вертляво впилась, держа его за концы, доходившие до ушей,
и локтем задевая соседа. Сосед продолжал хлебать свой чай,
придерживая между вторым и третьим пальцем торчавшую ложечку,
но незаметно опустил левую руку под стол.
впрочем, от дыни.
ножом указывая Цинциннат зеленое, с антимакассаром, кресло,
стоявшее особняком в штофном полусумраке около складок портьер.
-- Когда мы кончим, я вас отведу восвояси. Да садитесь, говорят
вам. Что с вами? Что с ним? Вот непонятливый!
покраснев, что-то ему сообщил.
сдерживая порывы голоса. -- Радостно!.. Давно пора было... Мы
все... -- он взглянул на Цинцинната и уже собрался
торжественно.
м-сье Пьер, тронув его за рукав.
стаканчика чаю, -- игриво произнес Родриг Иванович, а потом,
подумав и почавкав, обратился к Цинциннату:
ему альбом. Это к ее (жест ножом) возвращению в школу наш
дорогой гость сделал ей... сделал ей... Виноват, Петр Петрович,
я забыл, как вы это назвали?
столовой (где только вспыхивал, откалывая крупные секунды, блик
маятника), проливала на уютную сервировку стола семейственный
свет, переходивший в звон чайного чина.
бабочку и трех комнатных мух, -- но еще не совсем насытился и
посматривал на дверь. Спокойствие. Цинциннат был весь в
ссадинах и синяках. Спокойствие, ничего не случилось. Накануне
вечером, когда его отвели обратно в камеру, двое служителей
кончали замазывать место, где давеча зияла дыра. Теперь оно
было отмечено всего лишь наворотами краски покруглее да погуще,
-- и делалось душно при одном взгляде на снова ослепшую,
оглохшую и уплотнившуюся стену.
массивной темно-серебряной монограммой, альбом, который он взял
с собой в смиренном рассеянии: альбом особенный, а именно --
фотогороскоп, составленный изобретательным м-сье Пьером (*18),
то есть серия фотографий, с естественной постепенностью
представляющих всю дальнейшую жизнь данной персоны. Как это
делалось? А вот как. Сильно подправленные снимки с сегодняшнего
лица Эммочки дополнялись частями снимков чужих -- ради
туалетов, обстановки, ландшафтов, -- так что получалась вся
бутафория ее будущего. По порядку вставленные в многоугольные
оконца каменно-плотного, с золотым обрезом, картона и
снабженные мелко написанными датами, эти отчетливые и на
полувзгляд неподдельные фотографии демонстрировали Эммочку
сначала, какой она была сегодня, затем -- по окончании школы,
то есть спустя три года, скромницей, с чемоданчиком балерины в
руке, затем -- шестнадцати лет, в пачках, с газовыми крыльцами
за спиной, вольно сидящей на столе, с поднятым бокалом, среди
бледных гуляк, затем -- лет восемнадцати, в фатальном трауре, у
перил над каскадом, затем... ах, во многих еще видах и позах,
вплоть до самой последней -- лежачей.
достигалось последовательное изменение лица Эммочки (искусник,
между прочим, пользовался фотографиями ее матери), но стоило
взглянуть ближе, и становилась безобразно ясной аляповатость
этой пародии на работу времени. У Эммочки, выходившей из театра
в мехах с цветами, прижатыми к плечу, были ноги, никогда не
плясавшие; а на следующем снимке, изображавшем ее уже в
венчальной дымке, стоял рядом с ней жених, стройный и высокий,
но с кругленькой физиономией м-сье Пьера. В тридцать лет у нее
появились условные морщины, проведенные без смысла, без жизни,
без знания их истинного значения, -- но знатоку говорящие
совсем странное, как бывает, что случайное движение ветвей
совпадает с жестом, понятным для глухонемого. А в сорок лет
Эммочка умирала, -- и тут позвольте вас поздравить с обратной
ошибкой: лицо ее на смертном одре никак не могло сойти за лицо
смерти!
уезжает, а когда опять явился, счет нужным сообщить, что
барышня уехала:
(Показывает ладони.) Нет у меня ничего. (Снова к Цинциннату.)
Скучно, ой скучно будет нам без дочки, ведь как летала, да
песни играла, баловница наша, золотой наш цветок. (После паузы
другим тоном.) Чтой-то вы нынче, сударь мой, никаких таких
вопросов с закавыкой не задаете? А?"
достоинством удалился.
арестантском платье, а в бархатной куртке, артистическом
галстуке бантом и новых, на высоких каблуках, вкрадчиво
поскрипывающих сапогах с блестящими голенищами (чем-то делавших
его похожим на оперного лесника (*19)) вошел м-сье Пьер, а за
ним, почтительно уступая ему первенство в продвижении, в речах,
во всем, -- Родриг Иванович и, с портфелем, адвокат. Все трое
разместились у стола в плетеных креслах (из приемной),
Цинциннат же сперва ходил по камере, единоборствуя с постыдным
страхом, но потом тоже сел.
завозясь с портфелем, одергивая черную его щеку, держа его
частью на колене, частью опирая его о стол -- и съезжая то с
одной точки, то с другой, -- адвокат извлек большой блокнот,
запер или, вернее, застегнул слишком податливый и потому не
сразу попадающий на зуб портфель; положил его было на стол, но
передумал и, взяв его за шиворот, отпустил на пол, прислонив
его в сидячем положении пьяного к ножке своего кресла; быстро
вынул -- точно из петлицы -- эмалированный карандаш, наотмашь
открыл на столе блокнот и, ни на что и ни на кого не обращая
внимания, начал ровно исписывать отрывные страницы; но именно
это невнимание ко всему окружающему сугубо подчеркивало связь
между бегом карандаша и тем заседанием, на которое тут
собрались.
нажимом плотной спины заставляя трещать кресло и опустив одну
лиловатую лапу на подлокотник, а другую заложив за борт
сюртука; время от времени он производил такое движение
отвислыми щеками и напудренным, как рахат-лукум, подбородком,
словно высвобождал их из какой-то вязкой, засасывающей среды.
графина, затем бережно-бережно положил на стол кисти рук со
сплетенными пальцами (игра фальшивого аквамарина на мизинце) и,
опустив длинные ресницы, секунд десять благоговейно обдумывал,


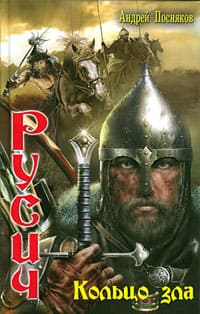
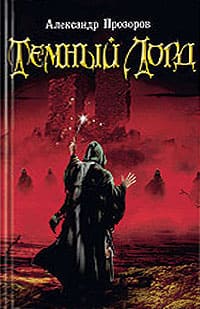


 Никитин Юрий
Никитин Юрий Перумов Ник
Перумов Ник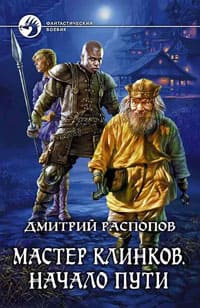 Распопов Дмитрий
Распопов Дмитрий Шилова Юлия
Шилова Юлия Маркелов Олег
Маркелов Олег Круз Андрей
Круз Андрей