хотя бы до некоторой степени.
быть намного счастливей. Здоровье мое продолжало снашиваться и
сквозь его обтрепанные прорехи проступали зловещие очертания.
Вера в мои труды стояла неколебимо, но несмотря на трогательные
намерения Ирис разделить их со мной, она так и осталась от них
в стороне, и чем большего совершенства я достигал, тем более
чуждыми становились они для нее. Она брала отрывочные уроки
русского, постоянно прерывая их на долгие сроки, и в конце
концов выработала устойчивое и вялое отвращение к этому языку.
Я скоро приметил, что она оставила попытки казаться
внимательной и понимающей, когда в ее присутствии разговаривали
по-русски и только по-русски (продержавшись из вежливого
снисхождения к ее недостатку минуту-другую на примитивном
французском).
сердце, впрочем, не сказываясь на здоровьи, - ему грозило иное.
прежде, посреди фривольных затей моей ранней молодости, теперь,
сложив на груди руки, вставал предо мной на каждом углу.
Кое-что из сексуальных прихотей Ирис, любовная изворотливость,
лакомость ласк, легкая точность, с какой она приноравливала
свой гибкий остов к любой из построек страсти, - все
предполагало обилие опыта. Прежде чем заподозрить настоящее, я
почитал обязательным исчерпать подозрения по части прошедшего.
Во время допросов, которым я подвергал ее в мои худшие ночи,
она отметала ранние романы как вовсе незначащие, не понимая,
что такая недоговоренность больше оставляет моему воображению,
нежели чудовищно раздутая правда.
вымучивал у нее с лютостью пушкинского безумного игрока и с еще
меньшей удачливостью), остались безымянными, и значит,
призрачными, лишенными личных черт, и значит, тождественными.
Они исполнили их краткие па в тени ее одиночной партии, -
фигуранты кордебалета, годные для приторной гимнастики, но не
танца: было ясно, что никто из них не станет премьером труппы.
Напротив, она, балерина, была словно темный алмаз, все грани ее
таланта готовились вспыхнуть, но под гнетом окружающей гили она
пока ограничивалась в жестах и поступи выражениями холодного
кокетства, увертливого флирта, ожидая, когда из-за кулис
выскочит в громадном прыжке (вслед за приличной прелюдией)
мраморнобедрый атлет в блестящем трико. Мы полагали, что я
избран на эту роль, однако мы ошибались.
сознания, мог я умерить муку чувственной ревности, обращенной
на призраков. И однако ж, нередко я уступал ей по собственной
воле. Французское окно моего кабинета на вилле "Ирис" выходило
на тот же крытый красной черепицей балкон, что и окно ее
спальни; приоткрыв, створку удавалось установить под таким
углом, что возникало два разных вида, вливавшихся один в
другой. Стекло наклонно ловило за монастырскими сводами,
ведшими от комнаты к комнате, кусочки ее постели и тела -
волосы, плечи, - каких иначе я не сумел бы увидеть от старинной
конторки, за которой писал; но в нем помещалась еще, казалось,
только вытяни руку, зеленая реальность сада и шествие кипарисов
вдоль его боковой стены. Так, раскинувшись наполовину в
постели, наполовину в бледнеющем небе, она писала письмо,
притиснув его к моей шахматной доске, к той, что поплоше. Я
знал, что если спрошу, она ответит: "А, старой школьной
подружке" или "Старенькой мисс Купаловой",и знал, что так или
иначе письмо доберется до почтовой конторы без того, чтобы я
повидал имя на конверте. Но я позволял ей писать, и она уютно
плыла в спасательном поясе из подушек над кипарисами и оградою
сада, а я неустанно исследовал - безжалостно, безрассудно - до
каких неприглядных глубин достанет щупальце боли.
Русские уроки большей частью сводились к тому, что она отно-
сила мое стихотворение или эссе к той или этой русской даме -
к мадемуазель Купаловой или к мадам Лапуковой (ни та ни дру-
гая английского толком не знала) и получала устный пересказ
на своего рода домодельном воляпюке. Когда я указывал Ирис,
что она зря расходует время на такую пальбу в белый свет, она
измышляла еще один алхимический метод, который мог бы позво-
лить ей прочитать все, что я написал. Я уже начал тогда
(1925) мой первый роман ("Тамара"), и она лестью выманила у
меня экземпляр первой главы, только что мной отпечатанной.
Она оттащила его в агенство, промышлявшее переводами на фран-
цузский утилитарных текстов вроде прошений и отношений, пода-
ваемых русскими беженцами разного рода крысам в крысиных но-
рах различных "комиссарьятов". Человек, взявшийся предста-
вить ей "дословную версию", которую она оплатила "в валюте",
продержал типоскрипт два месяца и при возвращении предупре-
дил, что моя "статья" воздвигла перед ним почти неодолимые
трудности, "будучи написанной идиоматически и слогом, совер-
шенно непривычным для рядового читателя". Так безымянный кре-
тин из горемычной, гремучей и суматошной конторы стал моим
первым критиком и переводчиком.
не застукал Ирис, наклоняющей каштановые кудри над листками,
почти пробитыми люто лиловыми буковками, покрывавшими их без
какого бы то ни было подобья полей. В те дни я наивно
противился любым переводам, частью оттого, что сам пытался
переложить по-английски два или три первых моих сочинения и в
итоге испытывал болезненное омерзение - и бешенную мигрень.
Ирис, с кулачком у щеки и с глазами, в истомленном недоумении
бегущими по строкам, подняла на меня взор - несколько отупелый,
но с проблеском юмора, не покидавшего ее и в самых нелепых и
томительных обстоятельствах. Я заметил дурацкий промах в первой
строке, младенческое гугуканье во второй и, не затрудняясь
дальнейшим чтением, все разодрал, - что не вызвало в моей милой
упрямице никакого отклика, кроме безропотного вздоха.
решила сама стать писательницей. С середины двадцатых годов и
до конца ее краткой, зряшной, необаятельной жизни моя Ирис
трудилась над детективным романом в двух, в трех, в четырех
последовательных версиях, в которых интрига, лица, обстановка
- словом, все непрестанно менялось в помрачительных вспышках
лихорадочных вымарок - все, за исключеньем имен (из которых я
ни одного не запомнил).
ей не хватало даже уменья подделаться под малую толику
одаренных авторов из числа процветавших, но эфемерных
поставщиков "детективного чтива", которое она поглощала с
неразборчивым рвением образцового заключенного. Но как же тогда
моя Ирис узнавала, что ей переменить, что выкинуть? Какой
гениальный инстинкт велел ей уничтожить целую груду черновиков
в канун, да, в сущности, в самый канун ее неожиданной смерти?
Только одно и могла представить себе эта странная женшина (и с
пугающей ясностью) - кармазиновую бумажную обложку идеального
итогового издания, с которой волосатый кулак негодяя тыкал
пистолетообразной зажигалкой в читателя, разумеется, не
догадывающегося, пока не перемрут все персонажи, что это и
впрямь пистолет.
времени ловко замаскированных, незримых в узорах семи зим.
купить на него смежных мест) я заметил, как Ирис радушно
приветствует женщину с тусклыми волосами и тонким ртом; я
определенно ее где-то видел и совсем недавно, но сама
незначительность ее облика не позволила уловить смутного
воспоминания, а Ирис я так о ней и не спросил. Ей предстояло
стать последней наставницей моей жены.
всякий, кто ее похвалил, - это его личный друг или безликий, но
благородный радетель, хулить же ее способны лишь завистливый
прощелыга да пустое ничтожество. Без сомнения, мог бы и я
впасть в подобное заблуждение, читая разборы "Тамары" в
периодических русскоязычных изданиях Парижа, Берлина, Праги,
Риги и иных городов, но я к тому времени уже погрузился во
второй мой роман - "Пешка берет королеву", а первый ссохся в
моем сознании до пригоршни разноцветного праха.
стала выпусками публиковаться "Пешка", пригласил "Ириду
Осиповну" и меня на литературный самовар. Упоминаю об этом
единственно потому, что то был один из немногих салонов, до
посещенья которой снисходила моя нелюдимость. Ирис помогала
приготовлять бутерброды. Я покуривал трубку и наблюдал
застольные повадки двух крупных романистов и трех мелких,






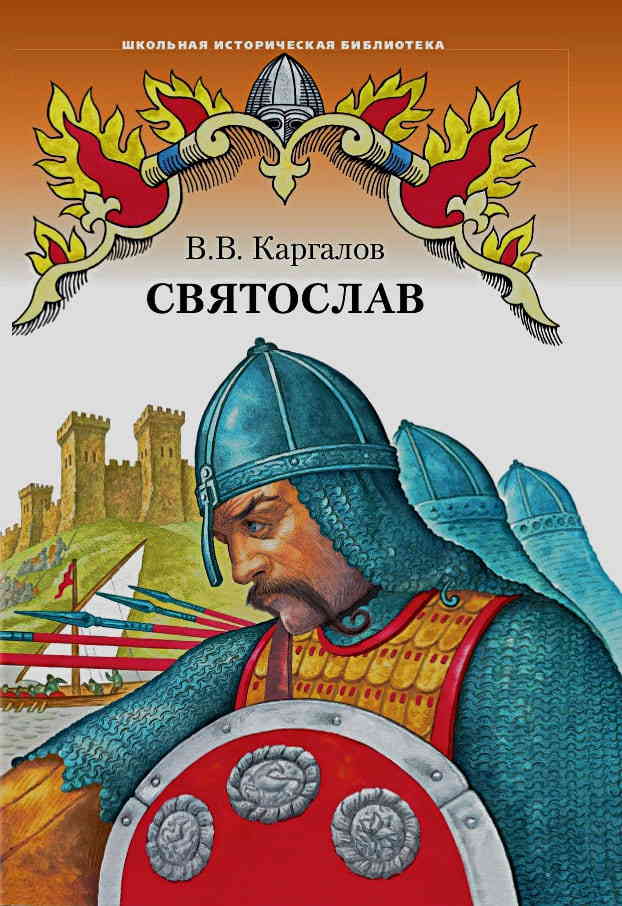 Каргалов Вадим
Каргалов Вадим Василенко Иван
Василенко Иван Перумов Ник
Перумов Ник Контровский Владимир
Контровский Владимир Грабб Джеф
Грабб Джеф Николаев Андрей
Николаев Андрей