одного крупного поэта и пяти помельче, обоих полов, а также
одного крупного критика (Демиана Базилевского) и пяти
маленьких, в их числе "Простакова-Скотинина", прозванного так
его архисупостатом Христофором Боярским.
вечер в Берлине, и он сказал: "Ничево", и затем рассказал
смешную, но не запомнившуюся историю про нового председателя
Союза русских писателей-эмигрантов Германии. Дама, сидевшая
рядом со мной, сообщила, что она без ума от вероломного
разговора между Пешкой и Королевой, насчет мужа, неужели они
взаправду выбросят бедного шахматиста из окна? Я отвечал, что
взаправду, но не в ближайшем выпуске и впустую: он будет вечно
жить в сыгранных им партиях и во множестве восклицательных
знаков будущих аннотаторов. Я также слышал - слух у меня под
стать зрению - обрывки общего разговора, например,
пояснительный шепот из-под руки: "Она англичанка" - за пять
стульев от меня.
служили привычным фоном всякой подобной сходки русских
изгнанников, на котором там и сям, среди пересудов и цеховой
болтовни, вспыхивала некая памятка - строчка Тютчева или Блока,
приводимая походя, с привычной любовью, явленная навек
потаенная высота искусства, украшавшего печальные жизни
внезапной каденцией, нисходившей с нездешних небес, сладостью,
славой, полоской радуги, отброшенной на стену хрустальным
пресс-папье, которого мы никак не найдем. Вот чего была лишена
моя Ирис.
одним из прочетов, замеченных мной в "переводе" "Тамары".
Предложение "виднелось несколько барок" превратилось в "la vue
etait assez baroque". Выдающийся критик Базилевский, пожилой,
коренастый блондин в измятом коричневом костюме, заколыхался в
утробном весельи, - но радостное выражение вскоре сменилось
подозрительным и недовольным. После чая он въелся в меня,
хрипло настаивая, что я выдумал этот пример оплошного перевода.
Я, помнится, ответил, что в таком случае и он вполне может
оказаться моей выдумкой.
что никак не научится мутить стакан чаю с одной только ложки
густого малинового варенья. Я сказал, что готов мириться с ее
умышленной отстраненностью, но умоляю перестать объявлять a la
ronde: "Пожалуйста, не стесняйтесь меня, мне нравится слушать
русскую речь". Это уже оскорбление, - все равно, как сказать
автору, что книга его неудобочитаема, но отпечатана
превосходно.
- Мне никак не удавалось найти подходящего учителя, - всегда
считала, что только ты и годишься, а ты ведь отказывался меня
учить: то тебе недосуг, то ты устал, то тебе это скучно, то
действует на нервы. Ну вот, я наконец нашла человека, который
говорит сразу на двух языках, твоем и моем, словно оба ему
родные, теперь все сходится одно к одному. Я про Надю Старову
говорю. Собственно, это ее идея.
служившего прежде при Врангеле, а ныне в какой-то конторе
"Белого Креста". Я познакомился с ним недавно, в Лондоне, мы
вместе тащили гроб на похоронах старого графа, чьим незаконным
отпрыском или "усыновленным племянником" (что это такое, не
знаю) он, как поговаривали, являлся. Это был темноглазый,
смуглый мужчина, года на три-четыре старший меня; мне он
показался довольно приятным - на раздумчивый, хмурый манер.
Ранение в голову, полученное в гражданскую войну, наградило его
ужасающим тиком, от которого лицо его через неравные промежутки
вдруг искажалось, как если б невидимая рука сжимала бумажный
пакет. Надежда Старова, тихая, невидная женщина с чемто
неопределимо квакерским в облике, невесть для какой причины,
конечно, медицинской, замечала эти промежутки по часам, сам же
он этих его "фейерверков" не сознавал, если только не видел их
в зеркале. Он обладал мрачноватым чувством юмора, замечательно
красивыми руками и бархатистым голосом.
беседовала как раз с Надеждой Старовой. Не могу точно сказать,
когда начались уроки, или сколько протянула эта прихоть, -
месяц, самое большее два. Происходили они либо у госпожи
Старовой дома, либо в одной из русских чайных, куда повадились
обе женщины. Я держал дома списочек телефонов, дабы Ирис имела
в виду, что я всегда могу выяснить, где она есть, если, скажем,
почувствую, что вот-вот помешаюсь, или захочу, чтобы она
дорогой домой купила жестянку моего любимого табаку "Бурая
Слива". Другое дело, - Ирис не знала, что я бы никогда не
решился вызванивать ее, потому что не окажись ее в названном ею
месте, я пережил бы минуты агонии, для меня непосильной.
мне, что уроки давным-давно прекратились: госпожа Старова
уехала в Лондон и, по слухам, к мужу возвращаться не
собиралась. Видать, лейтенант, был изрядный повеса.
зимы что-то в наших отношениях стало меняться к лучшему. Волна
новой привязанности, новой близости, новой нежности поднялась и
смела все иллюзии отдаления - размолвки, молчания, подозрения,
ретирады в крепость amour-propre и тому подобное, - все, что
служило препятствием нашей любви и в чем виноват я один. Более
покладистого и веселого товарища я не мог себе и представить.
Нежности и любовные прозвища (основанные в моем случае на
русских лингвистических формах) вновь воротились в наше
обыденное общение. Я нарушал монашеский распорядок труда над
моим романом в стихах "Полнолуние" верховыми прогулками с ней
по Булонскому лесу, послушными хождениями на рекламные показы
модных нарядов, на выставки мошенников-авангардистов. Я поборол
презрение к "серьезному" синематографу (придававшему любой
душераздирающей драме политическую окраску), который она
предпочитала американской буффонаде и комбинированным съемкам
немецкой фильмы ужасов. Я даже выступил с рассказом о моих
кембриджских денечках в довольно трогательном Дамском
Английском Клубе, к которому она принадлежала. И для полноты
счастья, я пересказал ей сюжет моего следующего романа ("Камера
люцида").
она заглянула в мою комнату и, получив разрешенье войти,
протянула мне копию отпечатанной на машинке страницы номер 444.
Это, сказала она, заключительный эпизод ее нескончаемой
повести, которой предстояло вскоре увидеть новые вымарки и
вставки. По слова Ирис, она застряла. Диана Вэйн, лицо
проходное, но в общем милое, приехав пожить в Париже,
знакомится в школе верховой езды со странным французом
корсиканского, а может быть и алжирского происхождения, -
страстным, брутальным, неуравновешенным. Он ошибочно принимает
Диану - и упорствует в этой ошибке, несмотря на ее веселые
увещания, - за свою былую возлюбленную, также англичанку,
которой он многие годы не видел. Здесь перед нами, указывал
автор, род галлюцинации, навязчивая фантазия, которой Диана,
резвушка и обладательница острого чувства юмора, позволяет Жюлю
тешиться на протяжении двадцати, примерно, уроков; но после его
интерес к ней становится более реалистическим, и она перестает
с ним встречаться. Ничего не было между ними и однако его
совершенно невозможно убедить, что он спутал ее с девушкой,
которой некогда обладал или думает, что обладал, потому что и
та девушка вполне могла оказаться лишь остаточным образом
увлечения, еще более давнего, а то и бредовым воспоминанием.
Положение сложилось очень запутанное.
угрожающее письмо к Диане, написанное французом на туземном
английском. Мне надлежало прочесть его так, словно оно
настоящее, и в качестве опытного писателя дать заключение,
какими последствиями или напастями чревата эта история.






 Контровский Владимир
Контровский Владимир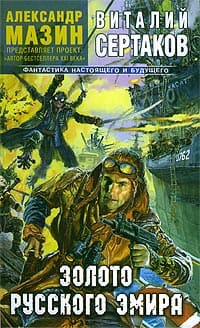 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Шилова Юлия
Шилова Юлия Сертаков Виталий
Сертаков Виталий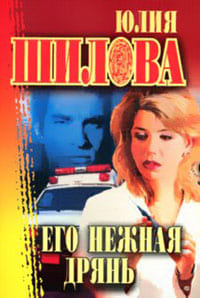 Шилова Юлия
Шилова Юлия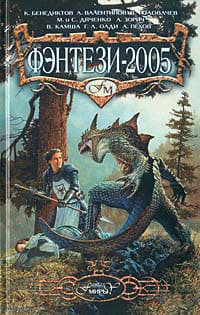 Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий