толкутся тут чуть не до вторника. И мы пошли за дом, огибая
кусты опунции, цеплявшие плащ у меня на руке. Вдруг я услышал
жуткий, нечеловеческий вой и посмотрел на Блэка, но невежа лишь
ухмыльнулся.
полосатыми щечками, изредка пронзительно вскрикивавший, сидя на
зябком заднем крыльце. Ивор звал его "Мата Хари" - отчасти
из-за акцента, но главное, по причине его политического
прошлого. Покойная тетушка Ивора, леди Уимберг, уже отчасти
свихнувшись (году в четырнадцатом или пятнадцатом), пригрела
старую скорбную птицу, которую, как говорили, бросил один
подозрительный иностранец со шрамами на лице и моноклем в
глазу. Птица умела сказать "алло", "Отто" и "папа" - скромный
словарь, отчего-то приводящий на ум хлопотливую семейку в
жаркой стране далеко-далеко от дома. Порой, когда мне случается
заработаться допоздна, и лазутчики разума больше не шлют
донесений, шевеление неточного слова отзывается в памяти сохлым
бисквитом, зажатым в большой неповоротливой лапе попугая.
быть, это ее спина помаячила мне у витражного окна на лестнице,
когда я прошмыгнул от salle d'eau с его конфузами в мою
аскетичную комнату). Предусмотрительный Ивор уверил меня, что
она - глухонемая и притом такая стеснительная, что даже теперь,
на двадцать первом году, никак не заставит себя выучиться
читать по мужским губам. Это показалось мне странным. Я всегда
полагал, что данная немочь облекает страдальца в абсолютно
надежный панцырь, прозрачный и крепкий, как непробиваемое
стекло, и внутри него ни озорство, ни позор сушествовать не
могут. Брат с сестрой объяснялись на языке знаков, пользуясь
азбукой, сочиненной ими в детстве и выдержавшей с тех пор
несколько переработанных изданий. Нынешнее включало несообразно
замысловатые жесты низкого рода пантомимы, - скорее пародия
предметов, чем символы их. Я, было, сунулся с какой-то нелепой
собственной лептой, но Ивор сурово попросил меня не валять
дурака: она очень легко обижается. Все это (вместе с сердитой
служанкой, старой канниццианкой, грохотавшей тарелками где-то
за рамкою рампы) принадлежало к другой жизни, к другой книге, к
миру неуследимо кровосмесительных игр, которого я еще не создал
сознательно.
молодыми людьми, семейственное же их сходство было несомненное,
притом, что Ивор имел внешность вполне простецкую - рыжеватый,
веснушчатый, - а она была смуглой красавицей с черной короткою
стрижкой и глазами цвета ясного меда. Не помню платья, что было
на ней в нашу первую встречу, но знаю, что тонкие руки ее
оставались голы и впивались мне в душу со всякой пальмовой
рощицей и осажденным медузами островком, какие она чертила по
воздуху, пока ее братец переводил мне эти узоры идиотским
суфлерским шопотом. Я был отомщен после обеда. Ивор отправился
за моим виски. В безгрешных сумерках мы с Ирис стояли на
террасе. Я раскурил трубку, и Ирис, бедром приткнувшись к
перилам, плавным русалочьим взмахом, имеющим изобразить волну,
указала на марево береговых огней в развале черных, как тушь,
холмов. Тут в гостиной за нами зазвонил телефон, и она
стремительно обернулась, - но с прелестным присутствием духа
обратила этот порыв в беспечный танец с шалью. Между тем, Ивор
уже скользил по паркету в сторону телефона, - услышать, что
понадобилось Нине Лесерф или кому-то еще из соседей. Ирис и я,
мы любили в поздней нашей близости вспоминать эту сцену
разоблачения, - Ивор несет нам стаканы, чтобы отпраздновать ее
сказочное выздоровление, а она, не обинуясь его присутствием,
легкой кистью накрывает мои костяшки: я стоял, с преувеличенным
негодованием вцепившись в перила, и не был, бедный дурак,
достаточно скор, чтобы принять ее извинения, поцеловав эту
кисть.
тяжелее всего избываемый после каждого повторного приступа, -
принадлежит к тому, что Нуди, лондонский специалист, первым
назвал "нумерическим нимбом". Составленное им описание моего
случая недавно перепечатано среди его избранных трудов. Ничего
этот "нимб" не значит. "М-р Н., русский аристократ" никаких
"признаков вырождения" не выказывал. Годов ему, когда он
обратился к сей прославленной бестолочи, было не "32", а 22.
Что хуже всего, Нуди спутал меня с господином В.С., который
является не столько даже поскриптумом к сокращенному описанию
моего "нимба", сколько самозванцем, чьи ощущения мешаются с
моими на всем протяжении этой ученой статьи. Правда, описать
упомянутый симптом трудновато, но полагаю, что я сделаю это
лучше профессора Нуди или моего пошлого и болтливого
сострадальца.
погружения в сон (а совершалось оно, как правило, далеко за
полночь и не без скромной помощи "Старого Меда" или "Шартреза")
я вдруг пробуждался (или, скорей, "возбуждался") мгновенно
обезумелым. Мерзкая боль в мозгу запускалась какимто
подвернувшимся на глаза намеком на призрачный свет, ибо сколь
тщательно не довершал я старательных усилий прислуги
собственным единоборством со шторами и шорами окон, всегда
сохранялась окаянная щель, корпускула тусклого света -
искусственного уличного или натурального лунного, - которая
оповещала меня о невыразимой опасности, едва я, хватая ртом
воздух, выныривал на поверхность удушаюшего сна. Вдоль тусклой
щели тащились точки поярче с грозно осмысленными пропусками
между ними. Эти точки отвечали, возможно, торопливым торканьям
моего сердца или оптически соотносились с взмахами мокрых
ресниц, но умопостигаемая их подоплека не имела значения;
страшная сторона состояла в беспомощном и жутком понимании
тупой непредвиденности и притом неотвратимости случившегося,
поставившего передо мной задачу на прозорливость, - предстояло
решить ее или погибнуть, собственно, она бы решилась и прямо
сейчас, не окажись я столь сонным и слабоумным в такую
отчаянную минуту. Сама задача принадлежала к разряду
вычислительных: надлежало замерить определенные отношения между
мигающими точками или, в моем случае, угадать таковые,
поскольку оцепененье мешало мне толком их сосчитать, не говоря
уж о том, чтобы вспомнить, каково безопасное их число. Ошибка
влекла мгновенную кару - отсечение головы великаном, а то и
похуже; напротив, правильная угадка позволяла мне ускользнуть в
волшебную область, лежащую прямо за скважинкой, в которую
приходилось протискиваться сквозь тернистые тайны, - в область,
схожую в ее идиллической чуждости с теми ландшафтиками, что
гравировали когда-то в виде вразумляющих виньеток - бухта,
bosquet - близ буквиц рокового коварного облика, скажем, рядом
с готической В, открывавшей главу в книжке для пугливых детей.
Но откуда было мне знать в моем оцепененьи и страхе, что в этом
и состояло простое решение, что и бухта, и боль, и блаженство
Безвременья, - все они открываются первой буквою Бытия?
ко мне, и я, передернув шторы, сразу же засыпал. Но в иные,
более опасные времена, когда я бывал еще нездоров и ощущал этот
аристократический "нимб", у меня уходили часы на упраздненье
оптического спазма, которого и светлый день не умел одолеть.
Первая ночь в новом месте неизменно бывала гнусной и
наследовалась гнетущим днем. Меня давила невралгия. Я был
дерган, прыщав и небрит и отказался последовать за Блэками на
увеселительную морскую прогулку, куда, оказывается и меня
пригласили, - так во всяком случае мне было сказано. По правде,
те первые дни на вилле "Ирис" до того исказились в моем
дневнике и смазались в памяти, что я не уверен, - быть может,
Ивор и Ирис даже и отсутствовали до середины недели. Помню,
однако, что они оказались очень предупредительны, и что
договорились с доктором в Канницце о моем визите к нему. Визит
предоставлял замечательную возможность сопоставить
некомпетентность моего лондонского светила с таковою же -
местного.
сдвоенным персонажем, состоявшим из мужа и жены. Тридцать лет
уже они практиковали совместно и каждое воскресенье в
уединенном, хоть оттого и грязноватом углу пляжа эта чета
анализировала друг дружку. У их пациентов считалось, что по
воскресеньям Юнкеры особенно проницательны, но я этого
обнаружить не смог, основательно нагрузившись в одной-двух
забегаловках по дороге в убогий квартал, где обитали и Юнкеры,
и, как я, помнится, заприметил, иные врачи. Парадная дверь
глядела очень мило в обрамленьи цветочков и ягод рыночной
площади, но посмотрели бы вы на заднюю. Меня принимала женская
половина, пожилая карлица в брюках, что в 1922-м году покоряло



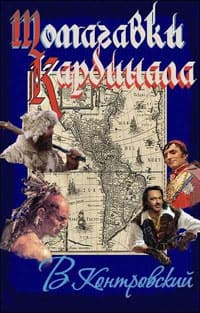

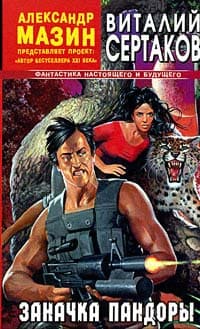
 Шилова Юлия
Шилова Юлия Никитин Юрий
Никитин Юрий Пехов Алексей
Пехов Алексей Шилова Юлия
Шилова Юлия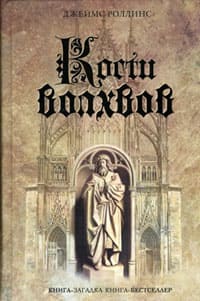 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Ильин Андрей
Ильин Андрей