что значат "правое" и "левое" в наше отсутствие, когда никто не
смотрит, в пустом пространстве, да заодно уж и что такое
пространство; вот я в детстве считала, что пространство - это
внутри нуля, любого нуля, нарисованного мелом на доске, пусть
не очень опрятного, но все же хорошего, отчетливого нуля. Мне
не хочется, чтобы вы сходили с ума и меня сводили, - ведь эти
сложности заразительны, - так что лучше нам попросту перестать
крутить ваши аллеи. Я бы с удовольствием скрепила наш договор
поцелуем, но придется его отложить. Вот-вот появится Ивор, он
хочет покатать нас в своей новой машине, но поскольку вы,
наверное, кататься не захотите, давайте встретимся на минутку в
саду перед самым обедом, пока он будет под душем.
был не сон, - сказала она. - Он просто хотел узнать, не звонила
ли его сестра насчет танцев, на которые они нас троих
приглашают. Ну, если и звонила, дома все равно было пусто."
там встретили Ивора. Он сказал, глупости, на сцене он отменно
танцует и фехтует, но в личной жизни - медведь-медведем, и
потом ему противно, когда всякий rastaquouere с Лазурного
берега получает возможность лапать его невинную сестру.
одержимость П. ростовщиками. Он едва не пустил по миру лучшего
из имевшихся в Кембридже, но только и знает, что повторять о
них традиционные гадости.
мне, будто на сцене. - Нашу родословную он скрывает, cловно
сомнительную драгоценность, но стоит кому-то назвать кого-то
другого Шейлоком, как он закатывает публичный скандал.
(его наниматель). Холодное мясо и маседуан под кухонным ромом.
Еще я разжился в английской лавке баночной спаржей, - она
намного лучше той, что вырастает здесь. Машина, конечно, не
"Ройс", но все ж и у ней имеется руль-с. Нынче утром я встретил
Мадж Титеридж, она уверяет, что французские репортеры
произносят ее фамилию как "Si c'est richt". Никто не смеется
сегодня."
большую часть полудня, трудясь над любовным стихотворением
(ставшим последней записью в моем карманном дневничке 1922-го
года, - сделанной ровно через месяц после приезда в Карнаво). В
ту пору у меня, казалось, было две музы: исконная, истеричная,
истинная, мучившая меня неуловимыми вспышками воображения и
ломавшая руки над моей неспособностью усвоить безумие и
волшебство, которыми она дарила меня, и ее подмастерье,
девчонка для растирания красок, маленькая резонница, набивавшая
в рваные дыры, оставляемые госпожой, пояснительную или
починявшую ритм начинку, которой становилось тем больше, чем
дальше я уходил от начального, непрочного, варварского
совершенства. Обманная музыка русских рифм лицемерно выручала
меня, подобно тем демонам, что нарушают черную тишь
художнического ада подражаниями греческим поэтам или
доисторическим птицам. Еще один и уже окончательный обман
сопутствовал беловику, в котором чистописание, веленевая бумага
и черная тушь на краткий срок приукрашивали мертвящие вирши. И
подумать только - почти пять лет я упорствовал и попадал в
западню, пока, наконец, не выгнал эту размалеванную,
забрюхатевшую, покорную и жалкую служанку.
террасу, стояло раскрытым. Старик Морис, Ирис и Ивор сидели,
смакуя мартини, в партере изумительного заката. Ивор кого-то
изображал - обладателя престранного выговора и преувеличенных
жестов. Изумительный закат не только сохранился в виде
декорации к сцене, перевернувшей всю мою жизнь, но, возможно,
дожил и до предложения, годы спустя сделанного мной моим
английским издателям: выпустить настольного формата альбом
восходов и закатов, добившись сколь можно более правдивых
цветов, - собрание, которое имело бы и научную ценность, ибо
можно бы было привлечь какого-нибудь дельного целестиолога,
чтобы он обсудил образцы, взятые в разных странах, и
проанализировал поразительные, никем пока не изученные различия
в колористических структурах сумерек и рассветов. Альбом со
временем вышел, дорогой и со сносными красками, но текст к нему
написала какая-то неудачница, и ее умильная проза и заемная
поэзия совершенно испортили книгу (Allan and Overton, London,
1949).
декламацию Ивора и созерцая огромный закат. По его размывке -
классических светло-оранжевых тонов - наискось прошаркивали
иссиня-черные акульи туши. Особый блеск придавали этому
сочетанию яркие, словно уголья, тучки, плывшие в лохмотьях и
колпаках над красным солнцем, принимающим форму то ли шахматной
пешки, то ли баллюстрадной балясины. "Смотрите, субботние
ведьмы!", - едва не воскликнул я, но тут заметил, что Ирис
встает и услышал ее слова: "Хватит уж, Ив. Морис его ни разу не
видел, ты зря расходуешь порох."
познакомятся тут Морис его и распознает (в глаголе слышались
сценические раскаты), в том-то и штука!"
продолжать своего скетча, который, когда я быстро прокрутил его
вспять, обжег мне сознание ловкой карикатурой моего говора и
манер. Странное я испытывал чувство: как будто от меня оторвали
кусок и бросили за борт, как будто я рванулся вперед,
одновременно отваливая в сторону. Второе движение возобладало,
и скоро мы соединились с Ирис под дубом.
наружного фонаря отблескивал на двух застывших машинах. Я
целовал ее губы, шею, бусы, губы. Она отвечала мне, разгоняя
досаду, но прежде чем ей убежать на празднично озаренную виллу,
я ей высказал все, что думал о ее идиотическом братце.
постели, - с умело упрятанным смятеньем артиста, чье искусство
осталось неоцененным, с очаровательными извинениями за
причиненную мне обиду и с "у вас вышли пижамы?", а я отвечал,
что, напротив, я скорее польщен, и вообще я летом всегда сплю
голым, а в сад предпочел не спускаться из опасения, что
небольшая мигрень помешает мне встать вровень с его
восхитительным перевоплощением.
неощутимо впал в более глубокое забытье (без всякой на то
причины проиллюстрированное образом моей первой маленькой
возлюбленной - в траве, посреди плодового сада), откуда меня
грубо вытряхнуло тарахтенье мотора. Я набросил рубашку,
высунулся в окно, вспугнув стайку воробьев из жасмина, чья
роскошная поросль достигала второго этажа, и со сладостой
оторопью увидел, как Ивор укладывает сумку и удочку в машину,
что стояла, подрагивая, едва ли не в самом саду. Было
воскресенье, и я полагал, что он целый день проторчит дома, ан
глядь, - он уже уселся за руль и захлопнул дверцу. Садовник
обеими руками давал тактические наставления, тут же стоял и
пригожий мальчик садовника с метелкой для пыли из синих и
желтых перьев. Вдруг я услышал ее милый английский голос,
желавший брату приятного препровождения времени. Пришлось
высунуться подальше, чтобы увидеть ее: она стояла на полоске
прохладной и чистой травы, босая, с голыми икрами, в ночной
сорочке с просторными рукавами, повторяя шутливые слова
прощания, которых он расслышать уже не мог.
Несколько минут спустя, покидая бурливый, жадно давящийся
приют, я увидел ее по другую сторону лестницы. Она входила ко
мне в комнату. Моя тенниска, розовато-оранжевая, как семужина,
не смогла укрыть моего безмолвного нетерпения.
потянувшись коричневой нежной рукой к полке, на которую я
пристроил старенькие песочные часики, выданные мне взамен
нормального будильника. Широкий рукав ее соскользнул, и я
поцеловал душистую темную впадинку, которую мечтал поцеловать с
первого нашего дня под солнцем.
попытку, вознаградившую меня дурацким подобием вереницы
щелчков, ничего решительно не замкнувших. Чьи шаги, чей
болезненный юный кашель доносится с лестницы? Да, разумеется,
это Жако, мальчишка садовника, по утрам протирающий пыль. Он
может впереться сюда, сказал я, уже говоря с затруднением.
Чтобы начистить, к примеру, вот этот подсвечник. Ох, ну что нам
за дело, шептала она, ведь он всего лишь усердный ребенок,




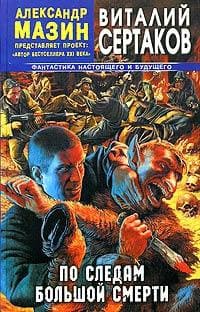

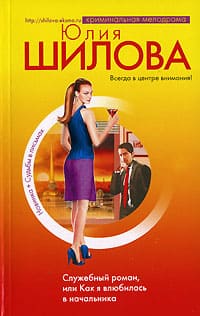 Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия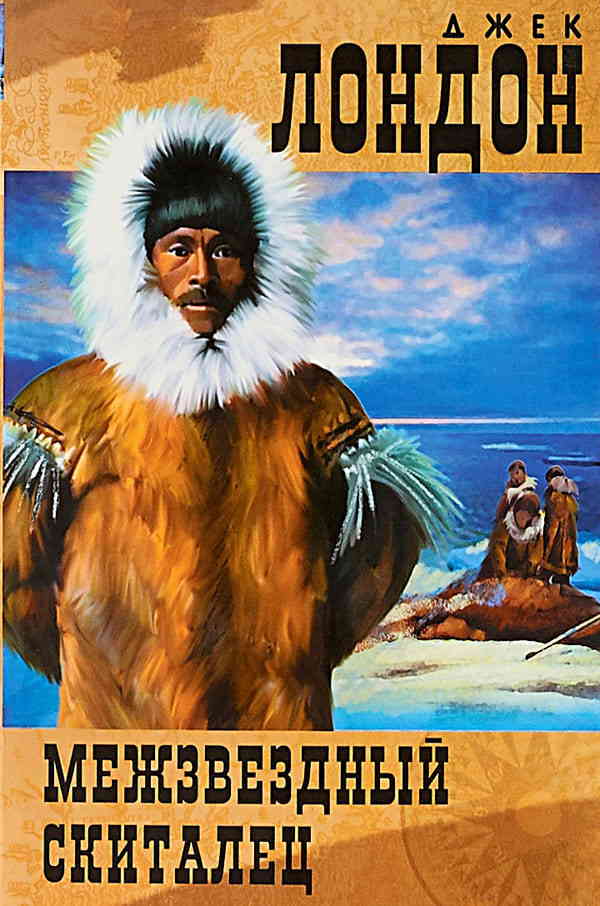 Лондон Джек
Лондон Джек Флинт Эрик
Флинт Эрик Сертаков Виталий
Сертаков Виталий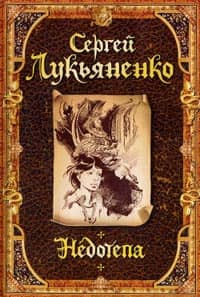 Лукьяненко Сергей
Лукьяненко Сергей