элементов". Стал проповедывать, что собственность есть мечтание, что
только нищие да постники взойдут в Царствие Небесное, а богатые да браж-
ники будут лизать раскаленные сковороды и кипеть в смоле. Причем, обра-
щаясь к Фердыщенке (тогда было на этот счет просто: грабили, но правду
выслушивали благодушно), прибавлял:
угольями трапезовать станешь, а я, Семен, тем временем на лоне Авраамлем
почивать буду.
тастрофа. Когда он возвратился домой, все ждали, что поступок Фердыщенки
приведет его, по малой мере, в негодование; но он выслушал дурную весть
спокойно, не выразив ни огорчения, ни даже удивления. Это была довольно
развитая, но совершенно мечтательная натура, которая вполне безучастно
относилась к существующему факту и эту безучастность восполняла большою
дозою утопизма. В голове его мелькал какой-то рай, в котором живут доб-
родетельные люди, делают добродетельные дела и достигают добродетельных
результатов. Но все это именно только мелькало, не укладываясь в опреде-
ленные формы и не идя далее простых и не вполне ясных афоризмов. Самая
книга "О водворении на земле добродетели" была не что иное, как свод по-
добных афоризмов, не указывавших и даже не имевших целью указать на ка-
кие-либо практические применения. Ионе приятно было сознавать себя доб-
родетельным, а, конечно, еще было бы приятнее, если б и другие тоже соз-
навали себя добродетельными. Это была потребность его мягкой, мечта-
тельной натуры; это же обусловливало для него и потребность пропаганды.
Сожительство добродетельных с добродетельными, отсутствие зависти, огор-
чений и забот, кроткая беседа, тишина, умеренность - вот идеалы, которые
он проповедовал, ничего не зная о способах их осуществления.
столько прозелитов в Глупове, что градоначальник Бородавкин счел нелиш-
ним обеспокоиться этим. Сначала он вытребовал к себе книгу "О водворении
на земле добродетели" и освидетельствовал ее; потом вытребовал и самого
автора для освидетельствования.
в ней злодейств был приведен в омерзение.
добродетель не от тебя, а от Бога, и от Бога же всякому человеку прис-
тойное место указано.
страхом, сколько с любопытством ожидал, к каким Бородавкин придет выво-
дам.
указах неотступно публикуется), - продолжал градоначальник, - то с чего
же тебе, Ионке, на ум взбрело, чтоб им не быть? и кто тебе такую власть
дал, чтобы всех сил людей от природных их званий отставить и зауряд с
добродетельными людьми в некоторое смеха достойное место, тобою "раем"
продерзостно именуемое, включить?
вал его:
вождать будут, то кто же, по твоему, Ионкину, разумению, землю пахать
станет? и вспахавши сеять? и посеявши жать? и собравши плоды, оными гос-
под дворян и прочих чинов людей довольствовать и питать?
скорым, и присудили тако: книгу твою, изодрав, растоптать (говоря это,
Бородавкин изодрал и растоптал), с тобою же самим, яко с растлителем
добрых нравов, по предварительной отдаче на поругание, поступить, как
мне, градоначальнику, заблагорассудится.
лизма.
Ионку на базар и, дабы сделать вид его более омерзительным, надели на
него сарафан (так как в числе последователей Козырева учения было много
женщин), а на груди привесили дощечку с надписью: бабник и прелюбодей. В
довершение всего квартальные приглашали торговых людей плевать на прес-
тупника, что и исполнялось. К вечеру Ионки не стало.
на неудачу, "дурные страсти" не умерли, а образовали традицию, которая
переходила преемственно из поколения в поколение и при всех последующих
градоначальниках. К сожалению, летописцы не предвидели страшного расп-
ространения этого зла в будущем, а потому, не обращая должного внимания
на происходившие перед ними факты, заносили их в свои тетрадки с прис-
корбною краткостью. Так, например, при Негодяеве упоминается о некоем
дворянском сыне Ивашке Фарафонтьеве, который был посажен на цепь за то,
что говорит хульные слова, а слова те в том состояли, что "всем-де людям
в еде равная потреба настоит, и кто-де ест много, пускай делится с тем,
кто ест мало". "И сидя на цепи, Ивашка умре", - прибавляет летописец.
Другой пример случился при Микаладзе, который хотя был сам либерал, но,
по страстности своей натуры, а также по новости дела, не всегда мог воз-
держиваться от заушений. Во время его управления городом тридцать три
философа были рассеяны по лицу земли за то, что "нелепым обычаем говори-
ли: трудящийся да яст; нетрудящийся же да вкусит от плодов безделья сво-
его". Третий пример был при Беневоленском, когда был "подвергнут
расспросным речам" дворянский сын Алешка Беспятов, за то, что к укору
градоначальнику, любившему заниматься законодательством, утверждал: "ху-
ды те законы, кои писать надо, а те законы исправны, кои и без письма в
естестве у каждого человека нерукотворно написаны". И он тоже "от
расспросных речей да с испугу и с боли умре". После Беспятова либе-
ральный мартиролог временно прекратился. Прыщ и Иванов были глупы; дю
Шарио же был и глуп, и, кроме того, сам заражен либерализмом. Грустилов,
в первую половину своего градоначальствования, не только не препятство-
вал, но даже покровительствовал либерализму, потому что смешивал его с
вольным обращением, к которому имел непреодолимую склонность. Только
впоследствии, когда блаженный Парамоша и юродивенькая Аксиньюшка взяли в
руки бразды правления, либеральный мартиролог вновь восприял начало, в
лице учителя каллиграфии Линкина, доктрина которого, как известно, сос-
тояла в том, что "все мы, что человеки, что скоты - все помрем и все к
чертовой матери пойдем". Вместе с Линкиным чуть было не попались впросак
два знаменитейшие философа того времени, Фунич и Мерзицкий, но вовремя
спохватились и начали, вместе с Грустиловым, присутствовать при "восхи-
щениях" (см. "Поклонение мамоне и покаяние"). Поворот Грустилова дал ли-
берализму новое направление, которое можно назвать центробежно-центрост-
ремительно-неисповедимо-завиральным. Но это был все-таки либерализм, а
потому и он успеха иметь не мог, ибо уже наступила минута, когда либера-
лизма не требовалось вовсе. Не требовалось совсем, ни под каким видом,
ни к каких формах, ни даже в форме нелепости, ни даже в форме восхищения
начальством.
такое оным восхищение, которое в то же время допускает и возможность
оным невосхищения! А отсюда до революции - один шаг!
в Глупове прекратился вовсе, а потому и мартиролог не возобновлялся.
"Будучи, выше меры, обременены телесными упражнениями, - говорит летопи-
сец, - глуповцы, с устатку, ни о чем больше не мыслили, кроме как о вып-
рямлении согбенных работой телес своих". Таким образом продолжалось все
время, покуда Угрюм-Бурчеев разрушал старый город и боролся с рекою. Но
по мере того как новый город приходил к концу, телесные упражнения сок-
ращались, а вместе с досугом из-под пепла возникало и пламя измены...
ряд празднеств. Во-первых, назначен был праздник по случаю переименова-
ния города из Глупова в Непреклонск; во-вторых, последовал праздник в
воспоминание побед, одержанных бывшими градоначальниками над обывателя-
ми; и, в-третьих, по случаю наступления осеннего времени, сам собой по-
дошел праздник "предержащих властей". Хотя, по первоначальному проекту
Угрюм-Бурчеева, праздники должны были отличаться от будней только тем,
что в эти дни жителям, вместо работ, предоставлялось заниматься усилен-
ной маршировкой, но на этот раз бдительный градоначальник оплошал. Бес-
сонная ходьба по прямой линии до того сокрушила его железные нервы, что,
когда затих в воздухе последний удар топора, он едва успел крикнуть:
"Шабаш!" - как тут же повалился на землю и захрапел, не сделав даже рас-
поряжения о назначении новых шпионов.
рыва, в первый раз вздохнули свободно. Они взглянули друг на друга - и
вдруг устыдились. Они не понимали, что именно произошло вокруг них, но
чувствовали, что воздух наполнен сквернословием и что далее дышать в
этом воздухе невозможно. Была ли у них история, были ли в этой истории
моменты, когда они имели возможность проявить свою самостоятельность? -
ничего они не помнили. Помнили только, что у них были Урус-Кугуш-Кильди-
баевы, Негодяевы, Бородавкины и, в довершение позора, этот ужасный, этот
бесславный прохвост! И все это глушило, грызло, рвало зубами - во имя
чего? Груди захлестывало кровью, дыхание занимало, лица судорожно иск-
ривляло гневом при воспоминании о бесславном идиоте, который, с топором
в руках, пришел неведомо отколь и с неисповедимою наглостью изрек смерт-
ный приговор прошедшему, настоящему и будущему...
храпел. Теперь он был у всех на виду; всякий мог свободно рассмотреть
его и убедиться, что это подлинный идиот - и ничего более.



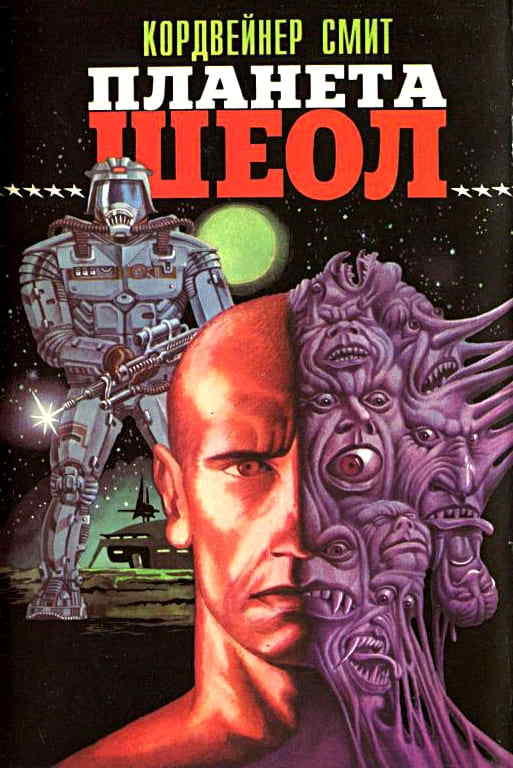

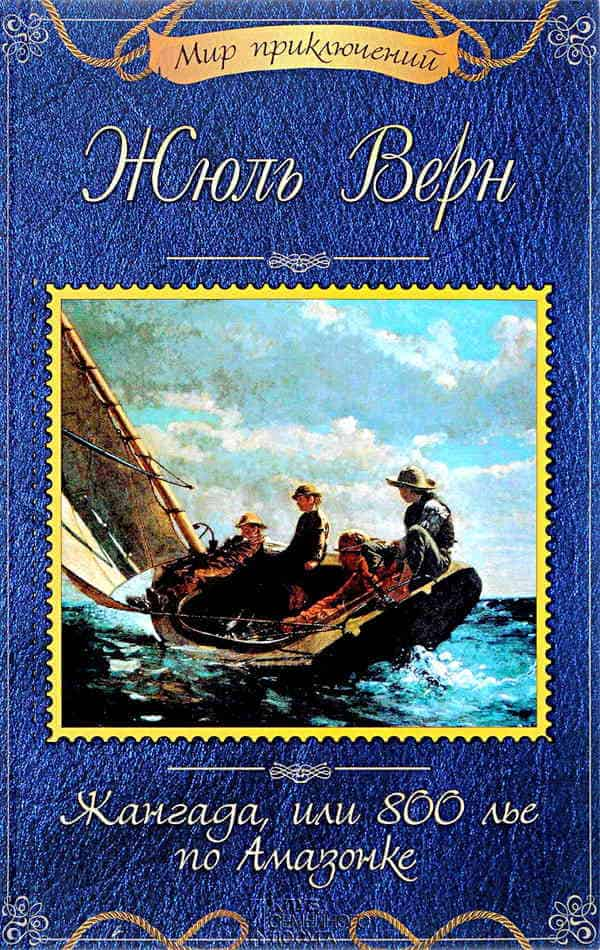
 Адамов Григорий
Адамов Григорий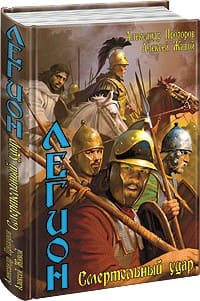 Прозоров Александр
Прозоров Александр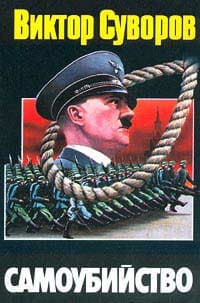 Суворов Виктор
Суворов Виктор Каргалов Вадим
Каргалов Вадим Майер Стефани
Майер Стефани Верещагин Олег
Верещагин Олег