печальное выражение, и когда, выходя из коляски, он спросил у
выбежавшего, запыхавшегося Фоки: "Где Наталья Николаевна?",
голос его был нетверд и в глазах были слезы. Добрый старик
Фока, украдкой взглянув на нас, опустил глаза и, отворяя дверь
в переднюю, отвернувшись, отвечал:
которая, как я после узнал, с самого того дня, в который
занемогла maman, не переставала жалобно выть, весело бросилась
к отцу - прыгала на него, взвизгивала, лизала его руки; но он
оттолкнул ее и прошел в гостиную, оттуда в диванную, из
которой дверь вела прямо в спальню. Чем ближе подходил он к
этой комнате, тем более, по всем телодвижениям, было заметно
его беспокойство: войдя в диванную, оншел на цыпочках, едва
переводил дыхание и перекрестился, прежде чем решился взяться
за замок затворенной двери. В это время из коридора выбежала
нечесанная, заплаканная Мими. "Ах! Петр Александрыч! - сказала
она шепотом, с выражением истинного отчаяния, и потом,
заметив, что папа поворачивает ручку замка, она прибавила чуть
слышно: - Здесь нельзя пройти - ход из девичьей".
страшным предчувствием детское воображение!
дурачок Аким, который всегда забавлял нас своими гримасами; но
в эту минуту не только он мне не казался смешным, но ничто так
больно не поразило меня, как вид его бессмысленно-равнодушного
лица. В девичьей две девушки, которые сидели за какой-то
работой, привстали, чтобы поклониться нам, с таким печальным
выражением, что мне сделалось страшно. Пройдя еще комнату
Мими, папа отворил дверь спальни, и мы вошли. Направо от двери
были два окна, завешенные платками; у одного из них сидела
Наталья Савишна, с очками на носу, и вязала чулок. Она не
стала целовать нас, как то обыкновенно делывала, а только
привстала, посмотрела на нас через очки, слезы потекли у нее
градом. Мне очень не понравилось, что все при первом взгляде
на нас начинают плакать, тогда как прежде были совершенно
спокойны.
шкапчик, уставленный лекарствами, и большое кресло, на котором
дремал доктор; подле кровати стояла молодая, очень белокурая,
замечательной красоты девушка, в белом утреннем капоте, и,
немного засучив рукава, прикладывала лед к голове maman
которую мне не было видно в эту минуту. Девушка эта была La
belle Flamande, про которую писала maman и которая
впоследствии играла такую важную роль в жизни всего нашего
семейства. Как только мы вошли, она отняла одну руку от головы
maman и поправила на груди складки своего капота, потом
шепотом сказала: "В забытьи".
мелочи. В комнате было почти темно, жарко и пахло вместе
мятой, одеколоном, ромашкой и гофманскими каплями. Запах этот
так поразил меня, что не только когда я слышу его, но когда
лишь вспоминаю о нем, воображение мгновенно переносит меня в
эту мрачную, душную комнату и воспроизводит все мельчайшие
подробности ужасной минуты.
никогда не забуду я этого страшного взгля-да! В нем выражалось
столько страдания!..
минутах матушки, вот что она мне сказала:
точно вот здесь ее давило что-то; потом спустила головку с
подушек и задремала, так тихо, спокойно, точно ангел небесный.
Только я вышла посмотреть, что питье не несут, - прихожу, а уж
она, моя сердечная, все вокруг себя раскидала и все манит к
себе вашего папеньку; тот нагнется к ней, а уж сил, видно,
недостает сказать, что хотелось: только откроет губки и опять
начнет охать: "Боже мой! Господи! Детей! детей!" Я хотела было
за вами бежать, да Иван Васильевич остановил, говорит: "Это
хуже встревожит ее, лучше не надо". После уж только поднимет
ручку и опять опустит. И что она этим хотела, бог ее знает. Я
так думаю, что это она вас заочно благословляла; да, видно, не
привел ее господь (перед последним концом) взглянуть на своих
деточек. Потом она приподнялась, моя голубушка, сделала вот
так ручки и вдруг заговорила, да таким голосом, что я и
вспомнить не могу. "Матерь, божия, не оставь их!.." Тут уж
боль подступила ей под самое сердце, по глазам видно было, что
ужасно мучилась бедняжка; упала на подушки, ухватилась зубами
за простыню; а слезы-то, мой батюшка, так и текут.
говорить: она отвернулась и горько заплакала.
Глава XXVII. ГОРЕ
взглянуть на нее; преодолев невольное чувство страха, я тихо
отворил дверь и на цыпочках вошел в залу.
нагоревшие свечи в высоких серебряных подсвечниках; в дальнем
углу сидел дьячок и тихим, однообразным голосом читал
псалтырь.
так заплаканы и нервы так расстроены, что я ничего не мог
разобрать; все как-то странно сливалось вместе: свет, парча,
бархат, большие подсвечники, розовая, обшитая кружевами
подушка, венчик, чепчик с лентами и еще что-то прозрачное,
воскового цвета. Я стал на стул, чтобы рассмотреть ее лицо; но
на том месте, где оно находилось, мне опять представился тот
же бледно-желтоватый прозрачный предмет. Я не мог верить,
чтобы это было ее лицо. Я стал вглядываться в него пристальнее
и мало-помалу стал узнавать в нем знакомые, милые черты. Я
вздрогнул от ужаса, когда убедился, что это была она; но
отчего закрытые глаза так впали? отчего эта страшная бледность
и на одной щеке черноватое пятно под прозрачной кожей? отчего
выражение всего лица так строго и холодно? отчего губы так
бледны и склад их так прекрасен, так величествен и выражает
такое неземное спокойствие, что холодная дрожь пробегает по
моей спине и волосам, когда я вглядываюсь в него?..
непреодолимая сила притягивает мои глаза к этому безжизненному
лицу. Я не спускал с него глаз, а воображение рисовало мне
картины, цветущие жизнью и счастьем. Я забывал, что мертвое
тело, которое лежало предо мною и на которое я бессмысленно
смотрел, как на предмет, не имеющий ничего общего с моими
воспоминаниями, была она. Я воображал ее то в том, то в другом
положении: живою, веселою, улыбающеюся; потом вдруг меня
поражала какая-нибудь черта в бледном лице, на котором
остановились мои глаза: я вспоминал ужасную действительность,
содрогался, но не переставал смотреть. И снова мечты заменяли
действительность, и снова сознание действительности разрушало
мечты. Наконец воображение устало, оно перестало обманывать
меня, сознание действительности тоже исчезло, и я совершенно
забылся. Не знаю, сколько времени-пробыл я в этом положении,
не знаю, в чем состояло оно; знаю только то, что на время я
потерял сознание своего существования и испытывал какое-то
высокое, неизъяснимо-приятное и грустное наслаждение.
грустью оглянулась на тот, в котором она оставляла нас; она
увидела мою печаль, сжалилась над нею и на крыльях любви, с
небесною улыбкою сожаления, спустилась на землю, чтобы утешить
и благословить меня.
шум разбудил меня, и первая мысль, которая пришла мне, была
та, что, так как я не плачу и стою на стуле в позе, не имеющей
ничего трогательного, дьячок может принять меня за
бесчувственного мальчика, который из шалости или любопытства
забрался на стул: я перекрестился, поклонился и заплакал.
одна эта минута самозабвения была настоящим горем. Прежде и
после погребения я не переставал плакать и был грустен, но мне
совестно вспомнить эту грусть, потому что к ней всегда
примешивалось какое-нибудь самолюбивое чувство: то желание
показать, что я огорчен больше всех, то заботы о действии,
которое я произвожу на других, то бесцельное любопытство,
которое заставляло делать наблюдения над чепцом Мими и лицами
присутствующих. Я презирал себя за то, что не испытываю
исключительно одного чувства горести, и старался скрывать все
другие; от этого печаль моя была неискренна и неестественна.
Сверх того, я испытывал какое-то наслаждение, зная, что я




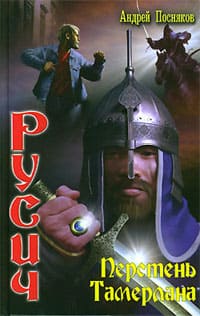
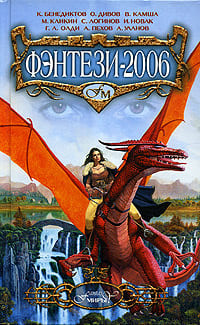
 Шилова Юлия
Шилова Юлия Лукин Евгений
Лукин Евгений Свержин Владимир
Свержин Владимир Панов Вадим
Панов Вадим Якубенко Николай
Якубенко Николай