каждый держал в руке старый конец и со стоическим спокойствием щипал паклю,
складывая ее кучкой у себя под боком. Свою работу они сопровождали
нескончаемым, тихим монотонным гудением, точно четыре седовласых волынщика,
играющие похоронный марш.
пакли, футов на восемь над сутолокой палубы, на равных расстояниях один от
другого сидели, скрестив ноги, еще шестеро чернокожих, и каждый держал по
заржавленному топору, начищая его, точно кухонный мужик, с помощью кирпича и
тряпки; в промежутках между ними лежали, дожидаясь своей очереди, целые
стопки ржавых топоров. Четверо щипальщиков пакли время от времени еще
обращались с короткими репликами к кому-нибудь из находящихся внизу, но
шесть точильщиков сидели совершенно безмолвно, не переговариваясь ни с
другими, ни даже между собой, и прилежно делали свое дело, лишь по временам,
со свойственной неграм склонностью сочетать работу и игру, оборачивались
попарно друг к другу и сталкивали в воздухе ржавые лезвия, точно ударяя в
литавры, подымая при этом варварский звон. Эти шестеро, в отличие от
остальных, имели дикарский африканский облик. Но первый взгляд, которым
капитан обвел палубу, задержался на этих десяти фигурах не долее одного
мгновения, нетерпеливо разыскивая в разноголосой сумятице того, кто бы
командовал кораблем.
страданий его подопечных или же просто пав духом от собственного бессилия,
испанский капитан, с виду довольно молодой человек благородного облика, в
богатом и пышном наряде, но с очевидными следами недавних бессонных забот и
треволнений на лице, недвижно стоял в отдалении, прислонившись спиной к
грот-мачте, то хмуро и отрешенно взглядывая на своих взбудораженных людей,
то бросая тоскливый взор на гостя. Подле него стоял низкорослый негр и то и
дело, точно верный пес, заглядывал в глаза хозяину со смешанным выражением
преданности и печали на грубом черном лице.
сочувствие и предложить посильную помощь. В ответ тот ограничился лишь
церемонным и сумрачным выражением признательности, и даже традиционная
испанская учтивость приобрела у него болезненный, хмурый оттенок.
трапу и велел поднять на палубу привезенные им корзины с рыбой, а затем, так
как ветер был по-прежнему слаб и немало времени должно было еще пройти,
прежде чем испанец сможет стать на якорь, он приказал своим матросам
возвратиться на шхуну и привезти пресной воды, сколько возьмет шлюпка,
свежего хлеба, какой найдется у стюарда, весь оставшийся на борту запас
тыкв, ящик сахару, а заодно и дюжину бутылок сидра из личных капитанских
запасов.
вовсе стих, и начавшийся отлив повлек беспомощное судно обратно в открытое
море. Зная, что это беда временная, капитан Делано попытался ободрить
испанцев; он не раз плавал в испанских колониальных водах и теперь
радовался, что может вполне сносно беседовать с этими несчастными на их
родном языке.
странности, но недоумение его отступило перед жалостью, равно и к испанцам,
и к неграм, одинаково настрадавшимся от нехватки воды и пищи; правда, долгие
тяготы, как видно, выявили в неграх свойственные им дурные наклонности,
одновременно лишив белых силы осуществлять над черными власть. И
неудивительно. В армиях, флотах, городах и семьях - да и в самой природе -
ничто так не подрывает порядок, как бедствие. Впрочем, капитан Делано
допускал, что, будь Бенито Серено человеком более энергичным, всеобщий
развал на его судне не достиг бы таких пределов. Но телесная и духовная
немощь испанского капитана, то ли присущая ему от природы, то ли вызванная
тяжкими лишениями, не могла не броситься в глаза. Как видно, обманчивые
надежды слишком долго дразнили его, и теперь, жертва беспросветного
отчаяния, он отвергал их, хотя они и перестали быть обманчивыми, и нисколько
не воспрянул духом, несмотря на то что мог твердо рассчитывать еще к исходу
дня, самое позднее к ночи, поставить судно на якорь и напоить своих людей, а
рядом с ним был теперь другой капитан, протянувший ему руку помощи и
сочувствия. Казалось, рассудок его расшатан, если не вконец расстроен.
Запертый в этих дубовых стенах, двигаясь все время по одному унылому кругу
власти и давно пресыщенный ее неограниченностью, он медленно расхаживал по
шканцам, точно мизантроп-настоятель под сводами своего монастыря, то вдруг
останавливаясь, вздрагивая или замирая с застывшим взглядом, кусая губы,
кусая ногти, краснея, бледнея, теребя бороду, и видно было, что мысли его
мрачны и чем-то неотступно заняты. Этот нездоровый дух обитал, как было
сказано выше, в столь же нездоровом теле. Ростом довольно высокий, испанский
капитан, вероятно, никогда не был особенно крепким, теперь же физические и
нервные страдания превратили его в настоящий скелет. В последнее время у
него, должно быть, проявилась прежде скрытая предрасположенность к легочным
заболеваниям. У него был голос человека, наполовину лишившегося легких,
сдавленный, сиплый полушепот. Неудивительно поэтому, что, куда бы он ни
направлял неверный шаг, за ним по пятам повсюду заботливо следовал
негр-слуга, то протягивая ему для поддержки черную руку, то доставая из
кармана изящный носовой платок. Все это - и многое другое - проделывалось с
тем рвением и теплом, благодаря которым деятельность самая обыденная,
служебная приобретает характер поистине родственный и которые повсеместно
заслужили неграм славу лучших в мире слуг - слуг, которых хозяину нет нужды
держать в строгости и на отдалении, а можно с ними быть запросто и
накоротке; не столько слуг, сколько преданных товарищей.
чернокожих, и явным неумением белых обуздать их, капитан Делано с
человеколюбивым удовлетворением наблюдал безупречное поведение малорослого
Бабо.
казалась способной вывести полубезумного дона Бенито из его сумрачного
оцепенения. Впрочем, испанский капитан тогда еще не представлялся американцу
полубезумным, его странное состояние воспринималось до поры до времени лишь
как бросающаяся в глаза деталь общей картины беды и беспорядка на судне. И
все-таки капитан Делано был неприятно задет, как ему тогда показалось,
недружелюбным безразличием испанца к нему. К тому же дон Бенито держался с
нескрываемым хмурым высокомерием, которое американский капитан, однако,
великодушно приписал все тому же разрушительному воздействию болезни, так
как по опыту прежних лет знал, что существуют своеобразные натуры, которых
продолжительные физические страдания лишают всяких признаков интереса и
доброты к ближним, словно, посаженные судьбой на черный хлеб несчастья, они
считают только справедливым подвергать обидам и унижениям всякого, кто к ним
приблизится, давая и ему вкусить от этой горечи.
своем отношении к дону Бенито, все же судил его слишком строго. Его обижала
холодность испанца; но ведь столь же холоден он был со всеми, кроме разве
своего слуги. Даже обычные судовые рапорты, с которыми к нему, по
заведенному морскому порядку, через положенные промежутки времени являлся
кто-нибудь из подчиненных (белый, негр или мулат), Бенито Серено выслушивал
нехотя, с презрительным нетерпением. Так, наверное, вел себя его монарший
соотечественник Карл V, перед тем как покинуть трон для отшельнической
жизни.
хмурый, он даже не снисходил до того, чтобы лично отдавать приказы, действуя
во всем через своего черного телохранителя, который, в свою очередь,
пересылал их по назначению через посыльных - испанцев или рабов, всегда
наготове вившихся поблизости от дона Бенито, подобно пажам или
рыбам-лоцманам. И человеку сухопутному никогда бы не пришло в голову, что
этот болезненный и вялый аристократ, безмолвно скользящий по палубе в
стороне от всего, облечен единоличной властью, выше которой во время
плавания нет инстанции на этом свете.
болезни. Но, с другой стороны, могло статься, что он прибегает к такой
манере сознательно. И в этом случае дон Бенито являл собой доведенное до
предела воплощение скверного, но существующего у капитанов крупных судов
обычая всегда держаться холодно и недоступно, не выказывая иначе, как в
минуту крайней опасности, своей правящей воли, а заодно и вообще ни малейших
признаков человечности, так что сам капитан уже становится как бы не живым
существом, а скалой или, вернее, заряженной пушкой, которой, пока не придет
пора метать громы, просто нечего сказать.
нечеловеческому поведению, испанский капитан и теперь, при настоящем
состоянии судна, сохраняет все ту же надменную позу, быть может, безвредную
или даже подходящую на хорошо оснащенном судне, каким "Сан-Доминик",
вероятно, был при выходе в плавание, но теперь по меньшей мере неуместную.
Возможно, испанец считал, что капитаны, как боги, во всех случаях жизни
должны оставаться недоступны для смертных. А всего вернее, его сонное
высокомерие - это не более как попытка скрыть собственное бессилие, не
жизненное правило, а простая уловка. Как бы то ни было, но чем больше
капитан Делано наблюдал нарочитую или невольную холодность дона Бенито ко
всем и вся, тем меньше он чувствовал себя лично ею задетым.
сутолока на палубе многострадального "Сан-Доминика" не могла не оскорблять
взор американца, привыкшего к спокойной семейственной упорядоченности на
своем зверобое. Здесь нарушалась не только матросская дисциплина, но подчас
обыкновенная пристойность. Причиной этого, по мнению капитана Делано, было
главным образом отсутствие вахтенных офицеров, которым на многолюдном
корабле поручаются, наряду с более высокими обязанностями, и, так сказать,
полицейские функции. Правда, седовласые щипальщики пакли с высоты по
временам увещевали своих чернокожих соплеменников; но, укрощая одного или
другого, пресекая отдельные стычки, они были бессильны установить на палубе




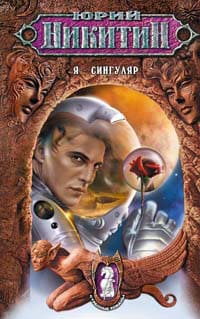
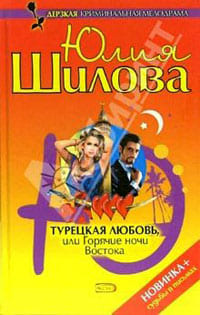
 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман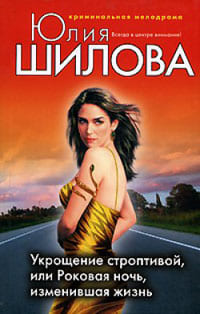 Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия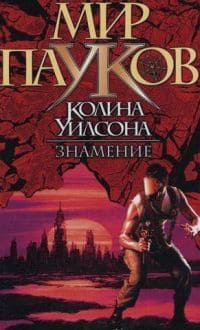 Прозоров Александр
Прозоров Александр Василенко Иван
Василенко Иван Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк