первой с ним встрече, И когда я заковылял к выходу, он протянул руку,
положил ее мне на плечо и негромко проговорил: "Эйбо, эйбо" (Подожди).
Занятый только собственными мыслями, я не обратил на его слова внимания,
отмахнулся и хотел было пройти, но тут он принял суровый вид и властно
приказал: "Мои!" (Садись!). Я поразился перемене в его обращении, но мне
было не до того - я прохромал дальше, хотя на руке у меня повис Кори-Кори,
пытаясь меня остановить. Тогда все, кто были в доме Тай, вскочили и встали
плечом к плечу на краю террасы пай-пай, загородив мне выход, а Мехеви,
грозно глядя на меня исподлобья, повторил свой приказ.
по-настоящему осознал себя пленником в долине Тайпи. Сознание это ошеломило
меня - я чувствовал, что подтверждаются худшие из моих страхов. Противиться
было бесполезно, я опустился на циновки и снова предался тоске.
дикари, думал я, скоро вступят в
соотечественниками, которые обязательно спасли бы меня, если бы знали, что я
здесь попал в беду. Никакими словами не передать, что я чувствовал и сколько
проклятии посылал, охваченный отчаянием, низкому предателю Тоби, бросившему
меня здесь на погибель. Напрасно пытался Кори-Кори соблазнить меня едой,
разжечь мою трубку и развлечь смешными ужимками, которые прежде меня иногда
забавляли. Я был подавлен этой новой неудачей - я и раньше опасался, что так
и будет, но никогда не мог спокойно додумать эту мысль до конца.
не оповестили нас о том, что люди возвращаются с моря.
выяснить. Дикари уверяли меня, что нет, но я склонен подозревать, что этим
обманом они хотели просто меня успокоить. Но так или иначе, случай этот
показал, что тайпийцы намерены держать меня у себя в плену. А поскольку
обращались они со мною по-прежнему заботливо и почтительно, я просто не
знал, что и думать о таком странном поведении. Будь я способен обучить их
каким-нибудь начаткам механики или вырази я желание быть хоть чем-нибудь им
полезным, тогда еще можно было бы предполагать у них какой-то расчет. Но так
их поведение казалось просто загадочным.
три, не больше, обращались ко мне за советом как
осведомленному. И случаи эти были так забавны, что я не могу не рассказать
здесь о них.
узелок, и этот узелок мы принесли с собой в долину Тайпи. В первую ночь
здесь я использовал его как подушку, но, когда наутро я его развязал и
показал туземцам содержимое, они были потрясены, словно увидели перед собой
ларец с брильянтами, и настояли на том, чтобы столь бесценное сокровище было
надлежащим образом запрятано. Соответственно, узелок был обвязан веревкой,
свободный конец которой пропустили через стропило и подтянули сверток под
самую крышу, где он и висел теперь прямо над циновками, на которых я обычно
спал. Если мне что-нибудь оттуда было нужно, - мне стоило только протянуть
руку к бамбуковой палке, за которую была закреплена веревка, и спустить
узелок на землю. Это было как нельзя более удобно, и я выразил туземцам
восхищение тем, как они это здорово придумали. Основное содержимое узелка
составляли бритва в футляре, иголки с нитками, фунта два табаку да несколько
ярдов пестрого ситца.
что мне предстоит прожить у тайпийцев неопределенно долгий срок - если
вообще не всю жизнь, - решил отказаться от ношения брюк и рубахи,
составлявших весь мой гардероб, дабы сберечь их в пристойном виде на тот
случай, если мне все-таки еще придется когда-нибудь очутиться
цивилизованных людей и понадобится их надеть. Вместо этого мне пришлось
облачиться в тайпийский костюм,
соответствии с моими понятиями о приличии, и в нем я выглядел, без сомнения,
не менее импозантно, чем римский сенатор, задрапированный в свою тогу.
Вокруг пояса я был в несколько слоев обернут полотнищем желтой тапы,
ниспадавшей к моим ногам наподобие дамской нижней юбки, с той только
разницей, что я не прибегал к толстым прокладкам сзади, какие носили наши
изысканные дамы в целях дальнейшего увеличения природной божественной
округлости своих фигур. Этим исчерпывался мой домашний туалет; выходя из
дому, я обычно добавлял к нему просторное покрывало из той же материи,
одевавшее меня сверху донизу и служившее защитой от солнечных лучей.
легко помочь такому горю, спустил из-под крыши мой узелок, достал иголку с
ниткой и в два счета зашил дырку. Они собрались вокруг и взирали на такое
достижение науки с величайшим восторгом. Вдруг старый Мархейо шлепнул себя
ладонью по лбу, бросился в угол и извлек засаленный ободранный кусок
выгоревшего ситца, - видимо, выторгованный на берегу у заезжего матроса
немало лет тому назад - и стал просить меня, чтобы я приложил к нему мое
искусство. Я охотно согласился, хотя, видит бог, никогда, наверное, моя
короткая игла не двигалась по ткани такими гигантскими скачками. Когда
починка была окончена, старый Мархейо на радостях по-отечески обнял меня и,
скинув свой маро (набедренную повязку), препоясал чресла этим куском ситца,
продел в уши свои любимые украшения и, подхватив копье, торжественно
выступил из дому, точно доблестный рыцарь-храмовник, облаченный в новые
бесценные доспехи.
тайпийцев она, хотя и была весьма невысокого качества, вызывала бурное
восхищение. Сам Нармони, местный герой, который с великой тщательностью
относился к своему туалету и вообще необыкновенно следил за собой - ни у
кого в долине не было татуировки замысловатее и вида безобразнее, - решил,
что ему бы очень пошло, если бы пройтись разок моей бритвой по его и без
того наголо бритой макушке.
для этой цели, как однозубые вилы - для того, чтобы стоговать сено. Не
удивительно поэтому, что проницательный Нармони оценил преимущества моей
бритвы. И вот в один прекрасный день он обратился ко мне с просьбой, чтобы
я, в виде личного одолжения, прошелся бритвой по его макушке. В ответ я
попытался ему втолковать, что она затупилась и ее надо направить, прежде чем
употреблять. Для ясности я несколько раз провел ею по ладони, словно по
точилу. Нармони сразу меня понял, выбежал из дому, притащил тяжелый шершавый
камень, огромный, как жернов, и смотрел, торжествуя, всем видом выражая
полную уверенность, что это именно то, что надо. Пришлось мне махнуть рукой
и приступить к бритью. Нармони извивался и корчился, но, неколебимо веруя в
мое искусство, стерпел все, как святой мученик.
за его мужество и доблесть. Перед началом операции его голова была покрыта
короткой ровной щетиной, когда же я закончил свои неловкие труды, она весьма
напоминала сжатое поле, где прямо по стерне прошлись бороною. Славный вождь,
однако, выразил мне живейшее удовлетворение, и я был не настолько глуп,
чтобы оспаривать его.
- 17 -
не наблюдал. Постепенно я утратил ощущение времени, перестал различать дни
недели и вообще погрузился в глубокую апатию, какая обычно наступает после
особенно бурных взрывов отчаяния. И вдруг, ни с того ни с сего, нога у меня
прошла - спала опухоль, утихла боль, я чувствовал, что еще немного и я
совсем излечусь от недуга, так долго меня терзавшего.
сопровождавших меня гурьбой, куда бы я ни направлялся, в моем отношении к
миру появилась неожиданная гибкость, благодаря которой я стал совершенно
недоступен мрачному унынию, еще недавно целиком мною владевшему. Всюду, где
я ни оказывался, меня встречали с самым почтительным радушием; с утра до
ночи меня кормили восхитительными фруктами и плодами; темноглазые нимфы
заботились о моем благе; да к тому же верный Кори-Кори просто не знал, как
мне еще услужить. Кто бы, право, мог лучше устроиться у каннибалов?
была отрезана недвусмысленным запретом, так что я после двух-трех неудачных
попыток дойти до берега, предпринятых главным образом любопытства ради,
принужден был отказаться от этой мысли. Не мог я надеяться и на то, чтобы
пробраться туда тайно, незаметно, потому что тайпийцы сопровождали меня
всюду и везде, и я не помню минуты, когда бы меня оставили в одиночестве. Да
и зеленые отвесные кручи, обступившие верхний конец долины, где стоял дом
Мархейо, исключали всякую возможность побега, даже если бы мне удалось
ускользнуть из-под неусыпного ока моих стражей.
неприятные думы. Теперь, любуясь пышной зеленью, среди которой я оказался
погребен заживо, и созерцая, задрав голову, обступавшие меня величественные
вершины, я представлял себе, что нахожусь в Долине Блаженных, а за горами
нет ничего, одни заботы да суета.
тем больше убеждался поневоле, что при всех ее недостатках жизнь полинезийца
среди этих щедрых даров природы куда более приятна, хотя, разумеется,
гораздо менее интеллектуальна, чем жизнь самодовольного европейца.
мрачным кровом небес и от голода живот подвело на бесплодных камнях Огненной
Земли, без сомнения, можно осчастливить дарами цивилизации, ведь они
облегчили бы его тяжкую нужду. Но изнеженный житель далеких Индий, который
ни в чем не испытывает недостатка, кого Провидение щедро одарило всеми
чистыми природными радостями жизни и оградило от стольких бед и недугов, -
чего ему ждать от Цивилизации? Она может "развить его ум", может "сообщить
ему возвышенный образ мыслей" - так, кажется, принято выражаться, - но


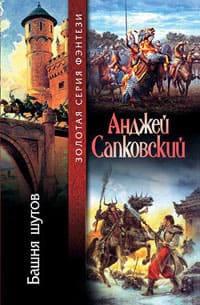


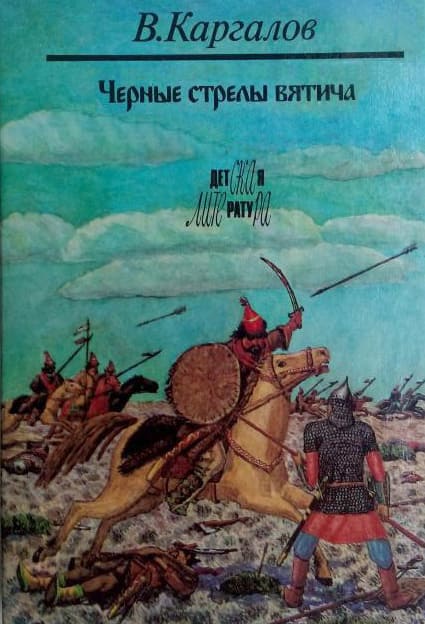
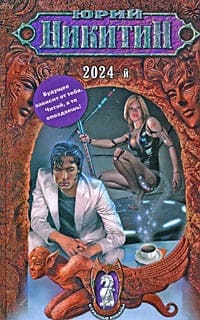 Никитин Юрий
Никитин Юрий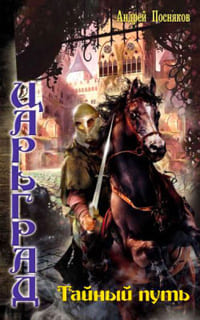 Посняков Андрей
Посняков Андрей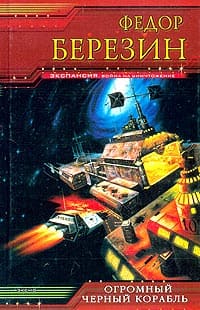 Березин Федор
Березин Федор Апраксина Татьяна
Апраксина Татьяна Куликов Роман
Куликов Роман Посняков Андрей
Посняков Андрей