шахматистов, да будет это отмечено в летописях шахматного искусства, приказ
был выполнен без всякого нытья и отговорок, причем молодежь снимала рубашки,
поскольку не носила кальсон, а старые пни вроде меня предпочли расстаться с
кальсонами... Леля, чаю, и покрепче, я не собираюсь сочинять для тебя книгу
бесплатао! Идея! Франсуа Рабле написал о пользе гульфиков, а почему бы мне
не написать эссе о кальсонах? Не говоря уже о том, что они надежно охраняют
от переохлаждения нижнюю, весьма важную для мужчины половину тела, кальсоны,
так как чаще всего они трикотажные, при пожарах неоценимы в качестве ветоши.
Я буду настоятельно рекомендовать ношение кальсон всем мужчинам независимо
от возраста и клеймить тех, кто их не носит, как нарушителей правил
противопожарной безопасности. Твое фырканье, Леля, означает, что про себя ты
думаешь примерно следующее: если мужчина за столом начинает
разглагольствовать о кальсонах, значит, у него все позади. Мысль глубоко
ошибочная и свидетельствующая о легкомыслии, свойственном твоему
возмутительно юному возрасту. "Вперед, вперед, моя исторья,-- лицо нас новое
зовет!", как говорил Александр Сергеевич. До чего мы отходчивы, я сейчас
даже не испытываю злости, а ведь из-за этого лица, или, как образно
выражается Дед, морды, мы чуть не погибли. Пока мы затыкали все щели, далеко
не лучшая часть личного состава обратила свои взоры к буфету, ибо, как
известно, бесплатная выпивка -- одно из возвышеннейших желаний такого
сложного и загадочного животного, как мужчина. Инициатором был Николай
Малявин, помощник ректора политехнического института, бездарный, но
поразительно красивый малый, про которого студенты говорили: "Взят в
ректорат за красоту". В шахматы он играл в силу Бублика и пришел болеть за
приятеля. Хотя указанный Малявин интеллектом мог поспорить с амебой, в
житейских делах он был необыкновенно ловок и прославился как покоритель не
очень требовательных дам и выдающийся выпивоха, чем безмерно гордился. Леля,
цитирую по памяти Честерфильда, потом проверишь и уточнишь: "Хвастун
уверяет, что выпил шесть или восемь бутылок за один присест: из одного
только милосердия я буду считать его лжецом, не то мне придется думать, что
он -- скотина". Итак, Малявин и несколько его единомышленников проникли в
буфет, заперлисъ, нахлестались дармового коньяку и с пьяной удааью стали
бить посуду. Пир во время чумы! Конечно, мы запросто могли бы выломать
дверь, но от этого я покамест решил воздержаться: и дверь в исправном
состоянии может пригодиться, и с пьяными возиться не хотелось. Тем более что
к этому времени обстановка стала осложняться: видимо, забитое в щели наше
исподнее прогорело и в зал проник дым, а вслед за ним, что особенно
впечатляло, небольшие язычки огня. Мы ударили по щелям из огнетушителей, и
довольно успешно, но тут Гриша обратил мое внимание на странное поведение
экс-чемпиона мира Ласкера, который вдруг стал подмигивать, корчить рожи,
багроветь и делать попытки выпрыгнуть из своей рамы. Как обнаружилось
впоследствии, Ласкер прикрывал своим авторитетом вопиющее безобразие: стена
под портретом была без штукатурки, раму, видимо, приколачивал такой же
народный умелец, как дядя Поджер у Джерома. После низвержения с престола
Капабланкой Ласкер наверняка не испытывал такого скверного с собой
обращения. Впрочем, нам некогда было его жалеть, так как в стене под
портретом образовалась дыра, через которую в зал хлестнул дым с огнем.
закончилась: пожар стал бить по нас прямой наводкой. И паника впервые
началась у нас настоящая, со всеми ее неприятными атрибутами, личный состав
вышел из повиновения и стал разбивать окна -- до сих только одно было
открыто -- стульями, шахматными досками, всем, что попадалось под руку, люди
полезли на подоконники, и один, как вы знаете, не удержался, до сих пор в
ушах стоит его крик... Нам некогда было призывать людей к порядку, мы --
Гриша, Андрюха, я и еще трое надежных парней -- били по дыре из шести
огнетушителей, пока смесь не кончилась, но какое там, окна-то открыты, тяга
дьявольская! Мы тоже побежали к окнам, не задыхаться же в дыму, по дороге я
споткнулся, зацепил ногой шахматный столик, по какому-то наитию схватил его,
побежал обратно к дыре и попытался ее прикрыть. Прикрыть-то прикрыл, а
удержать по смог -- вспыхнул столик как спичка, да и дыму я наглотался так,
что глаза из орбит полезли. Снова скакнул к окну, а люди метались, ложились
на пол, орали с подоконников: "Лестницу сюда, лестницу!", а она была в
каких-нибудь десяти метрах слева, это я точно помню, а справа какойто
пожарный лез по штурмовой лестнице на девятый этаж, я видел, как он вскочил
в окно.
порохом, и единственно разумным было отступить на новый рубеж. Но куда, в
буфет или в туалет? Я сообразил, что в буфете все-таки есть два окна и, хоть
заблокированный огнем, но все-таки выход в коридор, к лестничной клетке: что
ни говори, а шанс -- утопающий хватается за соломинку. Уговаривать пьянчуг
-- зря время терять, мы с Гришей в темноте нащупали дверь -- свечи-то
погасли, выдавили замок и стали загонять в буфет людей. Одни добирались
своим ходом, других приходилось срывать с подоконников и тащить волоком, а
маэстро Капустина, который обеими руками вцепился в окно и орал, как стадо
диких ослов, я грубо и бестактно стащил за шиворот. Втроем, с Гришей и
Андрюхой, мы побегали по залу, поискали, не остался ли кто -- не нашли.
Потом, уже в буфете, когда закрыли дверь и дым ушел в окна, я пересчитал
людей по головам: тридцать шесть... Еще раз, еще пересчитал -- тридцать
шесть. Сняли с себя что могли, намочили под краном, обвязали носоглотки --
снова втроем пошли искать, а все горит, дышать нечем -- не нашли... Нет,
мало я сказал, добавь, Леля: буфетчики -- особая порода, свободно растущая
вбок ветвь на древе человеческом! Нам-то и жить, быть может, осталось
минуту-другую, а Ираида вцепилась в Малявина, трясла его как грушу и выла:
"По милициям затаскаю, до копейки заплатишь, у меня здесь четырнадцать
бутылок неначатых было, пива два ящика!" А тот, к слову сказать, трезвел на
глазах, да и его дружки тоже... Под шумок кто-то открывал бутылки, Ираида
визжала, и тут Андрюха тронул меня за плечо и показал пальцем на дверь,
ведущую в коридор. Дверь весьма грозно потрескивала, приложил к ней ладонь
-- горячая! Ясно, в буфете нам долго не продержаться. Велел Грише и Андрюхе
держать меня за ноги и высунулся в окно по пояс: автолестница находилась там
же, по ней пожарные спускали людей. Я крикнул: "Братцы, скоро наша
очередь?", и один пожарный помахал рукой, что могло означать что угодно. Но
снизу, с земли, меня явно заметили, что-то кричали, да разве в таком гаме
услышишь? Мне показалось, что прямо под нами разворачивается другая машина с
лестницей, но сзади, за моей спиной, поднялись вопли, потянуло дымом, и
ребята стащили меня на пол. Дверь горела! Я поглубже вдохнул в себя свежий
воздух и во все горло рявкнул: "Мол-чать! Слушать мою команду! Нам нужно
продержаться всего несколько минут, пожарные на подходе! Мол-чать! Внимание!
Никифоров впереди, все остальные, держась за руки, за ним -- в туалет шагом
марш!" Коекто впал в столбняк, кое-кого пришлось вразумлять-силой -- момент,
на котором бы я не хотел останавливаться, но большинство вняло голосу
разума, люди стали выстраиваться в цепочку, брать друг друга за руки, как в
хороводе. А дыму было уже полно, кашель стоял жуткий! Я высунулся в зал, там
вовсю пылало, но до двери туалета было метра два, туда еще огонь не дошел.
Помню, я еще на мгновенье поколебался, уж очень не хотелось добровольно
лезть в мышеловку, в буфете все-таки окна, можно на худой конец выпрыгнуть,
что куда приятнее, чем гореть заживо, но тут дверь окончательно прогорела, в
буфет хлынул огонь -- и все бросились в туалет. Мы с Андрюхой убедились, что
в буфете никого нет, и побежали в наше последнее убежище. То, что оно
последнее, я не сомневался, эвакуироваться оттуда можно было только в рай
или в ад, кому что положено. Леля, чаю, а еще лучше боржому!
полагали, что сюда втиснутся тридцать шесть клиентов. Как мы расположились?
Автобус в час "пик" -- затасканное, но вполне подходящее сравнение, с той
разницей, что в автобусе все-таки светло, а мы оказались в полной темноте.
Гриша зажег и поднял над годовой зажигалку -- лучше бы он этого не делал, на
почерневшие, искаженные от ужаса лица было до крайности страшно смотреть. Я
велел открыть на полную мощь краны в душевых и умывальной, пусть хоть под
дверь льется вода. И вдруг я почувствовал, что мне становится теплее...
значительно теплее! Дед, ты еще не забыл, как горел в танке? Фу ты, нашел, у
кого спрашивать -- у пожарного... Леля, зафиксируй дурацкую мысль, пришедшую
в ту минуту в голову профессора Попрядухина: он подумал о том, насколько
обыкновенная ворона совершеннее человека, мнящего себя высшим достижением
эволюции: у вороны, этой неграмотной дуры, не имеющей понятия даже о таблице
умножения, есть крылья! А подумал я об этом потому, что физически ощутил,
как быстро нагревается дверь, к которой был прижат всем телом; обладая
некоторыми познаниями в области теплофизики, я пришел к несомненному и
малоутешительному выводу, что оную дверь начинает лизать огонь. Народ, как
ни странно, притих, если не считать того, что половина личного состава
надрывалась от безудержного кашля. И тут в зале что-то с треском рухнуло, от
двери понесло уже не теплом, а жаром, кто-то забился в истерике, а штука эта
заразительная, вызывает цепную реакцию. Я все время говорю "кто-то", не хочу
называть фамилии, пусть детишки думают о папах только хорошее. Один из этих
"кто-то" стал иа меня давить с истошным воплем: "Загнал в душегубку,
сволочь!" Я с силой уперся руками в стену, чтобы мною не выдавило двери...
Знаешь, Леля? Пиши: дальнейшего профессор Попрядухин не смог припомнить по
причине старческого слабоумия. Ну, отработал я пельмени, Патрикеевна?
в зал через коридор -- Суходольский и через дотла сгоревший буфет --
Головин. Зал горел, был крепко запрессован дымом, и о том, где находятся
люди, пожарные сориентировались по крикам. Работали четырьмя стволами и к
торцу зала пробились быстро. Когда находящийся впереди ствольщик Семен
Молчанов направил струю на горящую дверь туалета, та рассыпалась и из проема
стали вываливаться люди; Семен рассказывал, что от неожиданности у него даже
ствол повело в сторону. Одни падали и теряли сознание, другие с воплями
бросались под струи воды, третьи просто стонали, но не это привычное для
пожара зрелище изумило Семена, а то, что людей оказалось так много.


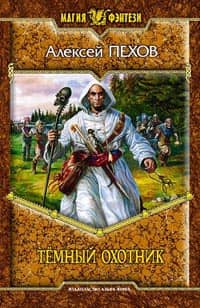


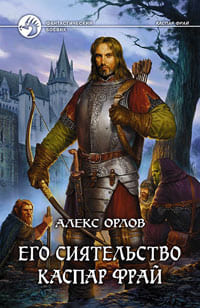
 Максимов Альберт
Максимов Альберт Шилова Юлия
Шилова Юлия Лукьяненко Сергей
Лукьяненко Сергей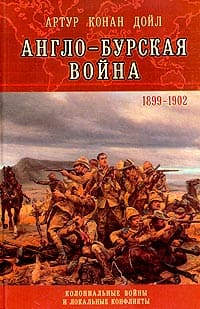 Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур Куликов Роман
Куликов Роман Каменистый Артем
Каменистый Артем