тем больше мне нравился этот край: и густой боярышник в цвету, и луга,
где частой россыпью белели овцы, и тучи грачей в небе - все говорило,
что земля здесь плодородная, климат благодатный; и только мрачная камен-
ная коробка посредине была мне все меньше по душе.
роги в таком унынии, что даже не сказал им "добрый вечер". Наконец солн-
це зашло, и тогда я увидел, что на фоне оранжевого неба вьется кверху
струйка дыма, жидкая, как дымок от свечи. И все-таки это был дым жилья,
он сулил огонь в очаге, и тепло, и миску горячего варева - значит, в до-
ме есть живая душа, которая развела этот огонь, а это уже утешительно.
сторону. Тропинка была едва заметная; странно, чтобы так выглядела
единственная дорога к человеческому жилью, но другой не было видно.
Вскоре она привела меня к двум каменным столбам с гербами наверху; рядом
стояла каменная сторожка без крыши. Ясно, что здесь был задуман, но так
и не достроен главный въезд; вместо кованых ворот к столбам была привя-
зана соломенным жгутом двустворчатая плетеная калитка, и моя тропочка,
не встретив на своем пути ни парковой ограды, ни подъездной аллеи, обе-
жала столбы с правой стороны и неуверенно запетляла к дому.
мому, оно представляло собою одно крыло неоконченной постройки. Предпо-
лагаемая средняя часть не доходила до верхних этажей и обрывалась, зияя
в воздухе ступенчатыми контурами незавершенной каменной кладки. Многие
окна не были застеклены, и летучие мыши выпархивали из них и залетали
обратно, точно голуби на голубятне.
этажа, очень узких и забранных крепкими решетками, замерцал неверный
огонек.
этих-то стенах ждут меня новые друзья и блестящие виды на будущее? Да у
нас в ЭссенУотерсайде так светились окна в родительском доме, такой дым
валил из трубы, что за милю увидишь, а дверь даже нищему отворялась по
первому стуку!
ло раздавалось чье-то нудное, сухое покашливание, но хотя бы один звук
человеческой речи, хотя бы собака затявкала!
из цельного куска древесины, сплошь обитая гвоздями. С замирающим серд-
цем я поднял руку и стукнул разок. Постоял, подождал. В доме воцарилась
мертвая тишина; проползла долгая минута, но ничто не шелохнулось, только
летучие мыши сновали над головой. Я постучал еще раз и опять прислушал-
ся. Теперь ухо мое так привыкло к безмолвию, что я различал, как тикают
часы в доме, медленно отсчитывая секунды; но его безвестные обитатели
хранили мертвую тишину, наверно, даже затаили дыхание.
пересилила, и я начал барабанить в дверь кулаками, стучать ногами и
громко звать мистера Бэлфура. Я разошелся вовсю, но вдруг услыхал покаш-
ливание как раз над собой и, отскочив, поднял голову: из окна нижнего
этажа высунулась мужская голова в высоком ночном колпаке и дульный раст-
руб мушкетона.
Бэлфуру, - сказал я. - Есть здесь такой?
черт.
сам убирайся отсюда.
Бэлфуру в собственные руки. Это - рекомендательное письмо.
Бэлфур.
шал, как мушкетон звякнул о подоконник. Следующий вопрос был задан очень
нескоро и странно изменившимся голосом:
барабанить ко мне в дверь. - Снова молчание, а потом он закончил с вызо-
вом: - Что же, друг любезный, я тебя впущу.
дверь самую малость приоткрылась и, едва я ступил за порог, тотчас зат-
ворилась опять.
лос.
двинулся вперед и очутился на кухне.
не видел, чтобы в кухне было так голо. Полдюжины плошек на полках, на
столе ужин: миска с овсянкой, роговая ложка, кружка жидкого пива. И
больше во всей этой огромной пустой комнате с каменным сводом - ничего-
шеньки, только запертые сундуки вдоль стен да угловой шкафчик-поставец с
висячим замком.
душное существо с землистым лицом, согбенное, узкоплечее, неопределенно-
го возраста, - ему могло быть пятьдесят лет, могло быть и семьдесят.
Колпак на нем был фланелевый, поверх дырявой рубахи, взамен сюртука и
жилета, наброшен был фланелевый же капот. Он давно не брился. Но самое
удручающее, даже страшноватое были его глаза: не отрываясь от меня ни на
секунду, они упорно избегали смотреть мне прямо в лицо. Определить, кто
он по званию или ремеслу, я бы не взялся; впрочем, более всего он смахи-
вал на старого слугу, который уже отработал свое и за угол и харчи ос-
тавлен присматривать за домом.
моего колена. - Можешь отведать вот этой кашки.
меня кашель мягчает.
протянул руку.
родным братом, а я тебе, любезный друг Дэви, родным дядюшкой, хотя ты,
видно, и гнушаешься мною, моим домом и даже моей доброй овсянкой. Ну, а
ты, стало быть, доводишься мне родным племянничком. Так что давай-ка сю-
да письмо, а сам садись, замори червячка.
год-другой моложе. Но сейчас, хоть и не в силах выдавить из себя ни сло-
ва хулы или привета, я подал ему письмо и стал давиться овсянкой. Куда
только девался мой молодой аппетит!
имел кой-какие виды?
родстве состоятельные люди, я и вправду понадеялся, что они мне помогут
в жизни. Но я не побирушка, я от вас не жду подаяний, во всяком случае,
таких, какие дают скрепя сердце. Не глядите, что я бедно одет, - и у ме-
ня есть друзья, которые только рады будут мне помочь.
Мы еще поладим как нельзя лучше. И, Дэви, дружок, если ты больше не хо-
чешь каши, я ее, пожалуй, прикончу сам. М-мм, знатная еда овсянка, -
продолжал он, согнав меня с табуретки и отобрав у меня ложку, - здоровая
еда, вкусная. - Он скороговоркой пробубнил молитву и принялся за кашу. -
Отец твой, помнятся, любитель был поесть. Не то чтобы обжора, но едок
отменный, а я - нет: клюну разок-другой и сыт. - Он отхлебнул пива и,
как видно, вспомнив про долг гостеприимства, предложил: - Если хочешь
промочить горло, вода за дверью.
тально глядел на дядю и еле сдерживался от гнева. Дядя же продолжал пос-
пешно набивать себе рот, а сам то и дело косился на мои башмаки, на гру-
бые, деревенской вязки чулки. Один лишь раз он отважился посмотреть вы-
ше, наши взгляды встретились, и у дяди смятенно забегали глаза, как у
карманного воришки, пойманного с поличным. Это навело меня на размышле-
ния: не потому ли он держится так несмело, что отвык бывать на людях, а


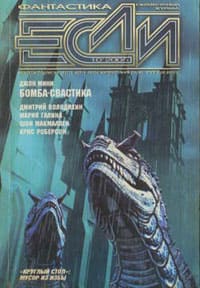
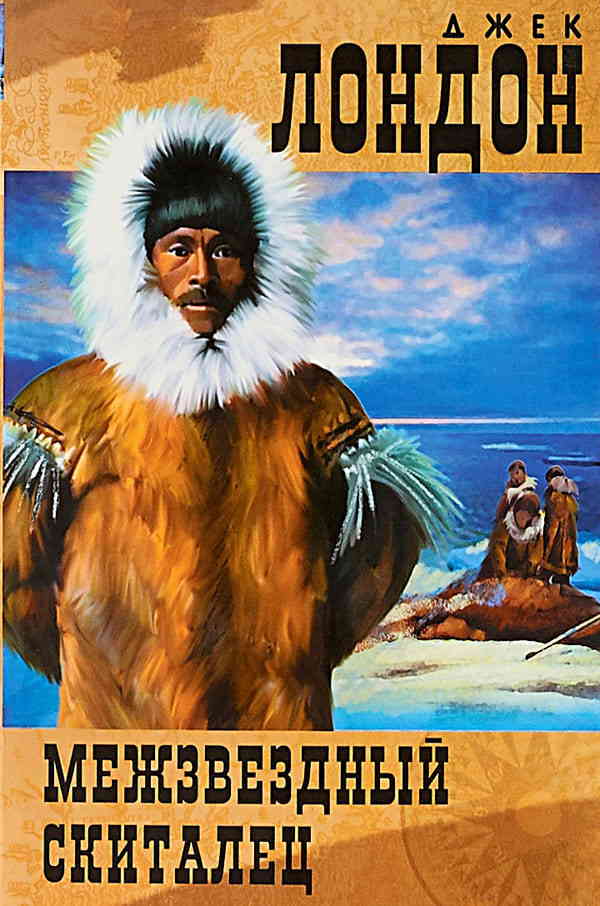


 Куликов Роман
Куликов Роман Контровский Владимир
Контровский Владимир Посняков Андрей
Посняков Андрей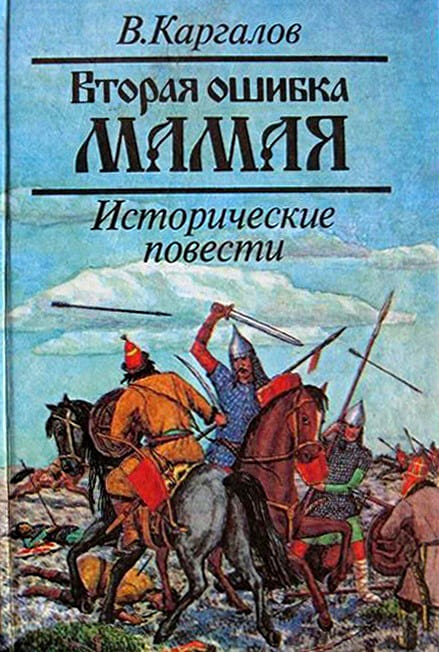 Каргалов Вадим
Каргалов Вадим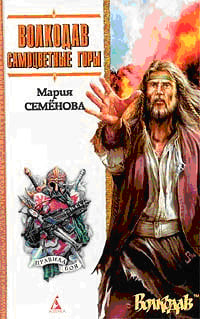 Семенова Мария
Семенова Мария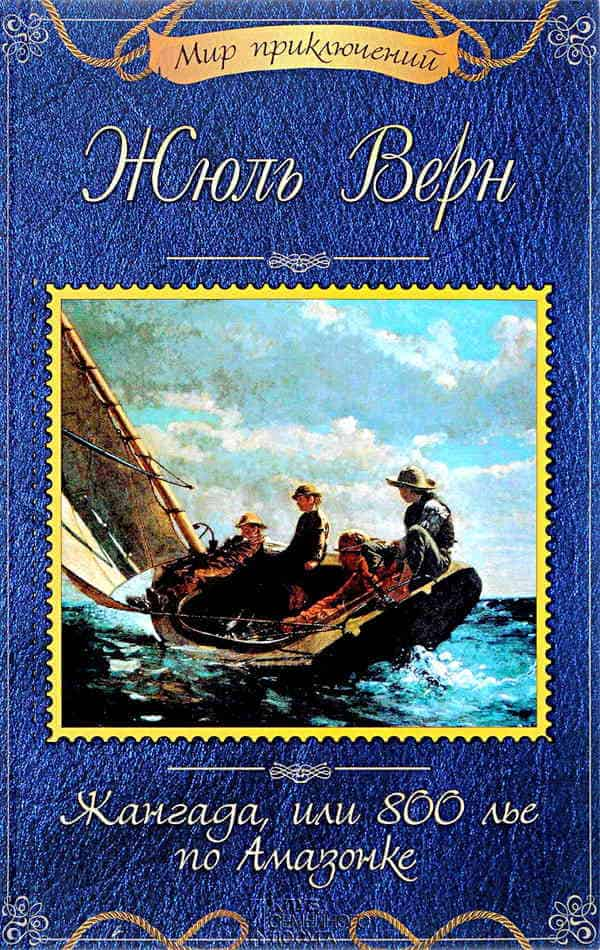 Жюль Верн
Жюль Верн