борт. Жест этот удивил Миллера: суровому новозеландцу чуждо
было проявление чувств. Но в следующую минуту Мэлдори спокойно
продолжал: -- Они приехали к концу дня печально знаменитой
протосамской резни. Грегориос рассказывал мне, как переодетый в
немецкую форму Андреа с улыбкой наблюдал, как девять или десять
болгарских солдат сталкивали греков в реку, связав их попарно.
Первыми сбросили его отца и мачеху. Оба были уже мертвы.
обычное спокойствие. -- Такого не может быть!
Сотни греков в Македонии погибли таким образом. Большей частью
их топили живьем. Тот, кто не представляет себе, как греки
ненавидят болгар, не ведает, что такое ненависть... Распив с
солдатами пару бутылок вина, Андреа узнал, что именно они днем
убили его родителей; те вздумали оказать сопротивление. С
наступлением сумерек он пробрался в железный ангар, где солдаты
разместились на ночлег. Кроме ножа, у Андреа ничего не было.
Оставленному у дверей часовому он свернул шею. Проникнув
внутрь, запер дверь и разбил керосиновую лампу. Грегориос не
знает, что там произошло, но спустя несколько минут Андреа
вышел из сарая в крови с головы до ног. Никто и пикнуть не
успел.
Ежась словно от холода, плотнее запахнулся в потертую куртку
Стивенс. Закурив еще одну сигарету, капитан кивнул в сторону
сторожевой башни.
бывает? Не мог же он всех порешить, шеф!
Тот превратил в сущий ад жизнь болгарским гарнизонам во Фракии.
Одно время в Родопских горах его отряд преследовала целая
дивизия. В конце концов его предали. Андреа, Грегориоса и еще
четверых отправили в Ставрос, чтобы оттуда доставить их в
Салоники и предать суду. Ночью они разоружили охрану и взяли
курс на Турцию. Турки решили их интернировать, но не тут-то
было! В конце концов Андрея добрался до Палестины и там
попытался вступить в греческий десантно-диверсионный батальон,
формировавшийся из ветеранов албанской войны. -- Мэллори
невесело усмехнулся. -- Его арестовали как дезертира.
Впоследствии Андреа освободили, однако во вновь созданную
греческую армию не взяли. Но в конторе Дженсена знали, что
Андреа сущая для них находка... И нас вместе отправили на Крит.
никем. Лишь изредка друзья для виду прикладывались к бутылке.
Правда, силуэты их были едва различимы издали. Каик стало
покачивать. С обеих сторон ввысь к уже усыпанному звездами небу
устремились темные, похожие на кипарисы, сосны. В вершинах их
тоскливо завывал ветер, вселяя в сердца зловещие предчувствия.
В такую ночь в душе человека просыпаются вековые страхи, и ему
мнится, что он стоит на краю могилы.
с берега. Все вскочили на ноги. Не дожидаясь, когда подтянут
корму, Андреа кинулся в воду и, сделав несколько мощных
гребков, легко поднялся на борт судна. Встряхнувшись, словно
большой лохматый пес, он протянул руку к бутылке.
мальчишки меня даже не заметили. -- Сделав еще один глоток,
Андреа широко улыбнулся. -- Я и пальцем их не тронул. Может,
пару подзатыльников дал. Они смотрели с парапета вниз, я
отобрал у них винтовки и запер в подвале. Потом чуть погнул
стволы пулеметов.
устремлениям, надеждам, страхам, любви и веселью для каждого из
нас. Вот чем все завершилось. Это конец для нас, для тысячи
ребят на острове Керос". Он вытер губы: с гребней волн
срывались соленые брызги. Прикрыв ладонью налитые кровью глаза,
тщетно вглядывался в ночную тьму. На смену усталости пришло
отчаяние. Пропало все. Все, кроме пушек крепости Наварено. Их
не уничтожить, будь они прокляты! Господи, столько усилий, и
все понапрасну! Под ударами волн и порывами ветра суденышко
разваливалось на части. Кормовая палуба то и дело погружалась в
кипящий котел, а нос то взлетал ввысь настолько, что обнажался
участок киля, то с силой падал в ложбины между крутыми валами,
так что ветхий каик трещал по всем швам.
каик вышел из своего укрытия и лег на норд, держа курс на
остров Навароне. Волнение шло от зюйд--оста, со стороны правой
раковины, и управлять каиком было нелегко: нос рыскал градусов
на пятьдесят. Но тогда обшивка была цела, судно шло с попутной
волной, ветер устойчиво дул с зюйд-тень-оста. Теперь все стало
иначе. От форштевня отошло с полдюжины досок, через сальник
гребного вала внутрь корпуса поступала вода, которую экипаж не
успевал откачивать с помощью допотопной ручной помпы. Волны
стали крупнее, обрушивались с кормы уже с другого борта, ветер
завывал с удвоенной силой, то и дело меняя направление с
зюйд-вестового на зюйд-остовое. Дуя в эту минуту с зюйда, он
нес неуправляемое суденышко на невидимые в кромешной тьме скалы
острова Навароне.
уже два с лишним часа то наклонялся, то выпрямлялся, принимая
ведра от Дасти Миллера, который вычерпывал воду из трюма. Янки
доставалось: у него работа была тяжелее, к тому же он страдал
морской болезнью. На него жутко было смотреть, но немыслимым
усилием воли он заставлял себя продолжать свой каторжный труд.
Мэллори, тотчас же осознав неточность этого определения.
Браун сидел, согнувшись в три погибели, в тесном дизельном
отсеке, наполненном ядовитыми газами, которые пробивались через
прохудившиеся прокладки. Несмотря на головную боль -- в отсеке
не было вентиляции, -- Кейси Браун ни разу не вышел оттуда,
продолжая обслуживать выдерживавший такую нагрузку ветхий
дизель со старательностью влюбленного в механизмы мастерового.
Стоило дизелю чихнуть, остановиться на мгновение, и судну, а с
ним и его экипажу был бы конец. Каик развернуло бы лагом к
волне и опрокинуло.
безостановочно, не поднимая головы, Андреа откачивал помпой
воду. Он не замечал ни свирепой качки, ни ветра, ни холодных
брызг, промочивших насквозь рубаху, прилипшую к могучим плечам
и согнутой спине. С постоянством метронома руки его то
поднимались, то опускались вновь. В этой позе он стоял почти
три часа и, кажется, готов был работать так вечно. Грек сменил
Мэллори, который за двадцать минут выбился из сил, дивясь
беспредельной выносливости Андреа.
сил старался удержать норовивший вырваться из рук штурвал.
Мастерство юноши, сумевшего справиться с неуклюжим суденышком,
восхитило Мэллори. Он внимательно смотрел на молодого
лейтенанта, но брызги хлестали по глазам, наполняя их слезами.
Единственное, что он мог заметить, это плотно сжатый рот,
запавшие глаза и окровавленную маску вместо лица. Огромный вал,
вдавивший внутрь обшивку рулевой рубки, разбил в ней стекла.
Особенно глубокой была рана над правым виском; из нее капала
кровь, смешивавшаяся с водой, которая плескалась на палубе
рубки.
наклонился, чтобы взять очередное ведро. Вот это экипаж, вот
это молодцы! Нет слов, чтобы воздать им должное.
бесцельно, так бесславно погибнуть? Но разве нельзя погибнуть
за святое дело, за идеалы? Чего хотели достичь мученики,
поднимаясь на костер? Если ты прожил жизнь достойно, разве
важно, как ты умрешь? Но тут пришли на ум слова Дженсена о
пешках в шахматных партиях, разыгрываемых верховным
командованием. Вот они и оказались в роли тех самых пешек,
теперь их черед сыграть в новый ящик. И никому до них никакого
нет дела. Таких, как они, в запасе у стратегов тысячи.
жалостью к себе. Подумал о том, что ответственность за
создавшееся положение лежит на нем и ни на ком другом. Это он
заманил ребят сюда. В душе сознавая, что у него не было иного
выхода, что, останься они в устье реки, их бы стерли в порошок
еще до восхода солнца, капитан все же бранил себя. Лишь
Шеклтон, Эрнест Шеклтон мог бы их сейчас спасти. Но не он, Кейт
Мэллори. Оставалось одно -- ждать конца. Но ведь он командир.
Он должен найти какой-то выход, что-то предпринять... Но






 Лондон Джек
Лондон Джек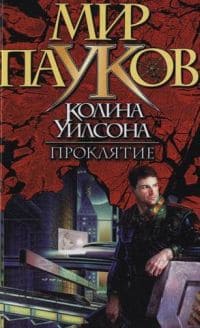 Прозоров Александр
Прозоров Александр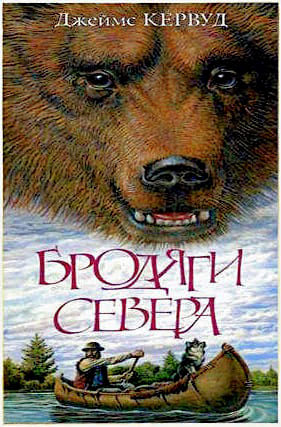 Кервуд Оливер Дж.
Кервуд Оливер Дж. Самойлова Елена
Самойлова Елена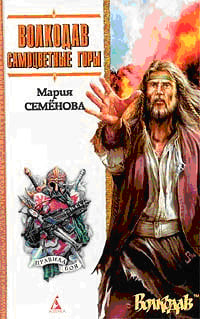 Семенова Мария
Семенова Мария Лондон Джек
Лондон Джек