искусства и науки; вся она состоит из одних ассоциаций, играет
с одними аналогиями. Или вот еще пример: доказательством
бессмыслицы всего нашего духовного образования и отношения к
жизни является наше сознательное бесплодие. Например, вы
анализируете, говорит он, законы, стили и технику всех
музыкальных эпох, а сами не создаете никакой новой музыки. Вы
читаете и толкуете Пиндара и Гете, говорит он, и стыдитесь сами
сочинять стихи. Все это такие упреки, от которых я не в силах
отделаться смешком. И они еще не самые страшные, не те, что
ранят меня больнее всего. Хуже, когда он, например, утверждает
будто мы, касталийцы, живем наподобие искусственно выведенных
певчих птиц, не зарабатывая себе на хлеб, не зная горестей и
борьбы за существование, не зная и не желая знать о той части
человечества, на труде и бедности которой зиждется наша
комфортабельная жизнь". Письмо заканчивается словами:
"Глубокочтимый Магистр, быть может, я злоупотребил Вашей
добротой и вниманием, -- я готов услышать из Ваших уст упрек.
Побраните меня, наложите на меня епитимью, буду только
благодарен Вам. Право, я нуждаюсь в Вашем совете. Некоторое
время я еще выдержу это состояние, но повернуть все в нужную
сторону -- для этого я слишком слаб и неопытен, и самое плохое,
что я не могу довериться нашему директору, разве что Вы мне это
строго прикажете. Вот почему я докучаю Вам тем, что постепенно
становится для меня все более тяжким бременем".
держи мы его, черным по белому, в наших руках! Но ответ был дан
устно. Вскоре после того, как Иозеф отправил письмо, Магистр
музыки посетил Вальдцель, чтобы принять экзамен, и в первый же
день своего пребывания наилучшим образом позаботился о своем
юном друге. Мы знаем об этом из рассказов самого Кнехта.
Магистр отнюдь не облегчил ему задачи. Он начал с тщательной
проверки школьных отметок Кнехта и в особенности его приватных
занятий, каковые Магистр нашел чересчур односторонними. В этом
он согласился с директором, настояв, чтобы Иозеф сам во всем
признался, последнему. Относительно того, как Иозефу вести себя
с Дезиньори, он оставил весьма определенные указания и уехал не
ранее, чем обсудил все с Цбинденом. Последствием был не только
примечательный и незабываемый для всех, кто был тому
свидетелем, поединок между Дезиньори и Кнехтом, но также и
совершенно новые отношения между Кнехтом и директором. Правда,
они и теперь не были задушевными и таинственными, как в случае
с Магистром музыки, но они прояснились, и напряженность
исчезла.
определила всю его жизнь. Ему было дозволено принять
предложенную Плинио дружбу и, так сказать, с открытым забралом
встретить его атаки, причем учителя не должны были вмешиваться
или контролировать их. Главная задача, поставленная Магистром,
заключалась в следующем: Кнехту вменялось в обязанность
защищать Касталию от ее критиков, а весь диспут вести на самом
высоком уровне; это повлекло за собой, между прочим,
необходимость активного усвоения всех законов, существовавших в
Ордене и Касталии, отчетливого их осознания. Прошло немного
времени, и диспуты между подружившимися противниками приобрели
известность, ученики боялись пропустить хотя бы один из них.
Агрессивный, иронический тон Дезиньори утратил свою прежнюю
грубость, формулировки его стали осторожней и ответственней,
критика более конкретной. До этого на стороне Плинио были почти
все преимущества: он прибыл из "мира", обладал его опытом, его
методами и средствами нападения, да и в нем самом было что-то
от бездушности этого мира; из разговоров, ведшихся взрослыми в
доме Дезиньори, ему было известно примерло все, что этот мир
имел против Касталии. Но возражения Кнехта заставили его теперь
вонять: хоть он и знал свой мир недурно, лучше любого
касталийца, зато Касталию, ее дух "он знал куда хуже, нежели
те, для кого она была родным домом, одновременно родиной и
судьбой. Он стал понимать и постепенно даже признавать, что он
здесь гость, а не абориген, и что не только там, в его мире, но
и здесь, в Педагогической провинции, имеется вековой опыт и
кое-какие достижения, и здесь имеются традиции, даже своя
"природа", которую он знал только частично и которая теперь,
через своего гляшатая Иозефа Кнехта, требовала к себе уважения.
А Кнехт, чтобы лучше справляться с ролью апологета, вынужден
был путем занятий, медитации и самовоспитания все яснее, все
глубже усваивать то, что ему предстояло защищать. В риторике
Дезиньори всегда одерживал верх, здесь, помимо темперамента и
честолюбия, свойственных ему от природы, ему помогали некоторый
светский опыт и знание жизни; даже терпя поражение, он никогда
не забывал о слушателях и обеспечивал себе достойное или, во
всяком случае, остроумное отступление, в то время как Кнехт,
припертый противником к стене, мог, например, сказать: "Об этом
мне надо еще подумать. Подожди несколько дней, Плинио, я тебе
тогда напомню".
форму, а их диспут стал непременным атрибутом тогдашней
вальдцельской жизни, то для Кнехта ни сама его беда, ни весь
конфликт ничуть не сделались легче. Благодаря высокому доверию
и ответственности, возложенной на него, он справился с задачей,
и доказательством силы и здоровья его натуры служит то, что он
достиг этого без видимого вреда для себя. Но в душе он очень
страдал. Ведь дружеские чувства, которые он испытывал к Плинио,
предназначались не только обаятельному и остроумному, светскому
и бойкому на язык товарищу, но в не меньшей мере тому чужому
миру, который его друг и противник представлял, который Кнехт
угадывал и познавал в образе Дезиньори, в его словах и жестах;
тому, так называемому "реальному миру", где существовали нежные
матери и дети, голодающие люди и приюты для бедных, газеты,
избирательная борьба; тому примитивному и вместе изысканному
миру, куда Плинио ездил на каникулы, чтобы навестить родителей,
братьев и сестер, поухаживать за девушками, посетить собрания
рабочих или развлечься в фешенебельном клубе, в то время как
он, Иозеф Кнехт, оставался в Касталии, ходил в походы с
однокашниками, купался, разбирал ричеркары Фробергера{2_2_04}
или читал Гегеля.
касталийской жизнью, жизнью без газет, без семьи, без кое-каких
легендарных развлечений, но и без нужды и голода,-- кстати,
ведь и Плинио, столь яростно обзывавший учеников элиты
трутнями, никогда не голодал и ни разу не заработал себе на
кусок хлеба, -- в этом Кнехт ни минуты не сомневался. Нет, мир
Плинио вовсе не был наилучшим из миров, не был он и более
разумно устроен. Но он существовал, он был здесь, и, как было
известно из всемирной истории, существовал всегда и всегда был
примерно таким же, как теперь. Многие народы никакого другого
мира не знали, они даже не догадывались о существовании
элитарных школ и Педагогической провинции, Ордена, Магистров и
Игры. Великое множество людей на земле жило иной жизнью, чем
жили в Касталии, проще, примитивней, опасней, незащищенней,
беспорядочней. И этот примитивный мир был для людей родным, да
Кнехт и сам чувствовал какой-то его след в собственном сердце,
подобие любопытства, тоски по нему и даже жалости к нему.
Отдать ему должное, отвести ему место в собственном сердце, но
не поддаться ему -- вот задача. Ибо рядом с ним и выше его
существовал другой мир, мир Касталии, мир духа, искусственно
созданный, упорядоченный и охраняемый, однако нуждающийся в
постоянном надзоре и воссоздании себя, мир иерархии. Служить
Касталии, не попирая и тем более не презирая и другой мир, и
притом не поглядывать на него исподтишка, с неясными желаниями,
с тоской по родине -- да, это было бы вернее всего! Ведь
маленькая Касталия служит большому миру, она поставляет ему
учителей, книги, разрабатывает научные методы, заботится о
чистоте духовных функций и морали и всегда, как некая школа и
прибежище, открыта для небольшого числа людей, предназначенных
посвятить свою жизнь духу и истине. Но почему же оба мира не
живут в полной гармонии и братстве рядом друг с другом,
проникая друг в друга? Почему нельзя объединить и тот и другой
в своем сердце и оба лелеять?
с периодом, когда Иозеф, уставший и измученный возложенной на
него задачей, с превеликим трудом сохранял душевное равновесие.
Магистр понял это по некоторым намекам юноши, но гораздо
отчетливее свидетельствовал о том же его переутомленный вид,
беспокойный взгляд, какая-то рассеянность. Магистр задал
несколько наводящих вопросов, натолкнулся на упрямое нежелание
отвечать, перестал спрашивать и, озабоченный состоянием Иозефа,
повел его в класс фортепиано, якобы намереваясь сообщить ему о
некоем открытии музыкально-исторического характера. Он попросил
Кнехта принести клавикорды, настроить их и мало-помалу втянул
его в разговор о происхождении сонаты, покуда ученик в конце
концов в какой-то мере не забыл о своих бедах, не увлекся и,


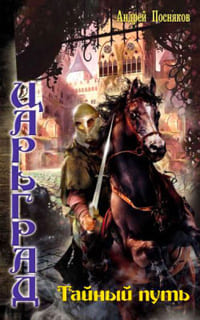
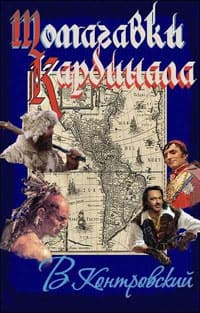


 Каменистый Артем
Каменистый Артем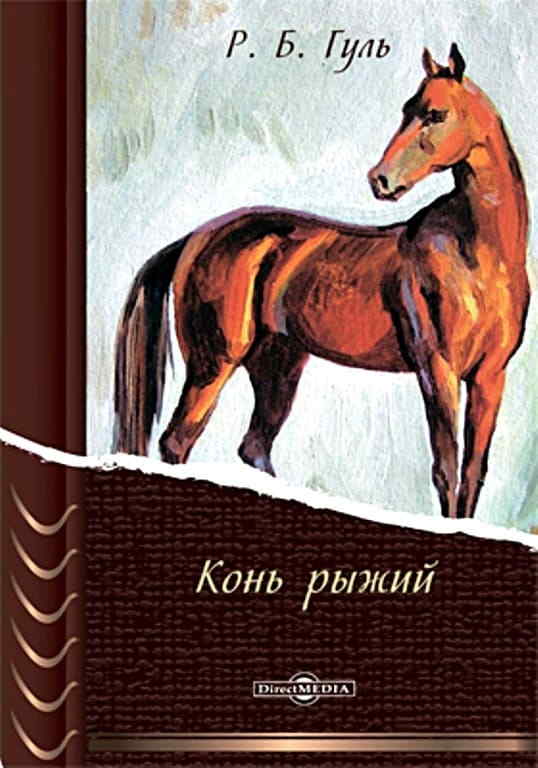 Гуль Роман Борисович
Гуль Роман Борисович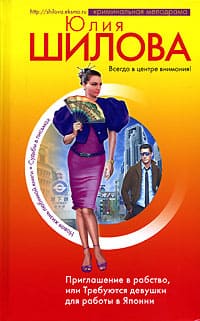 Шилова Юлия
Шилова Юлия Корнев Павел
Корнев Павел Свержин Владимир
Свержин Владимир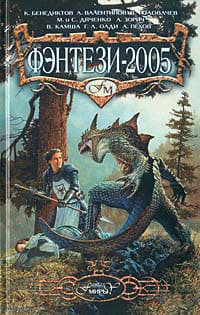 Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий