чем же оплатить свой долг. Разве это не так?
ты и сейчас еще, пожалуй, чрезмерно вежлив. Ты говоришь "мы
оба", но ведь не оба же мы искали и не могли найти друг друга.
Поиски, любовь -- все это было только с моей стороны, а отсюда
и мое разочарование, и боль. Что в твоей жизни изменилось,
спрашиваю я тебя, после нашей встречи? Ничего! Для меня же это
был глубокий, болезненный надлом, -- вот почему я не могу,
подобно тебе, просто посмеяться над этой историей.
поторопился. Но все же я надеюсь, что со временем я и тебя
заставлю смеяться вместе со мной. Это верно, ты был тогда
уязвлен -- не мною, правда, как ты думал и, кажется,
продолжаешь думать, а лежавшими между тобой и Касталией
отчуждением и пропастью, которую мы в годы нашей дружбы как
будто перешагнули, но которая вдруг, неожиданно, ужасающе
широко и глубоко разверзлась между нами. Поскольку ты меня
считаешь виновным, прошу тебя, выскажи открыто свое обвинение.
Тогда ты ее не расслышал, да и сейчас, думается, не хочешь
слышать. И тогда ты отвечал на нее своей вежливой улыбкой, и
сегодня поступаешь точно так же.
расположение, он не мог выкинуть из памяти старое; ему
казалось, что необходимо наконец высказаться и покончить с этой
давней и глубоко запрятанной болью.
подумал, а потом мягко сказал:
друг. Возможно, ты прав, и нам надо и это обсудить. Но прежде
всего я должен тебе напомнить: только в том случае ты имел бы
право требовать от меня понимания того, что ты называешь своей
жалобой, если бы ты действительно эту жалобу высказал. Но ведь
тогда, во время пашей вечерней беседы в доме для гостей, ты не
высказывал никаких жалоб, наоборот, ты, как и я, разговаривал
надменно и развязно, подобно мне, прикидывался человеком
беспечным, которому не о чем печалиться. Но втайне ты ожидал,
как я сейчас вижу, что, несмотря на это, я угадаю твою скрытую
жалобу и увижу под маской твое истинное лицо. Верно, кое-что
можно было и тогда заметить, хотя не все. Но как я мог, не
задевая твоей гордости, дать тебе понять, что ты меня
беспокоишь, что я тебя жалею? Да и что пользы было протягивать
тебе руку, если она была пуста, если я ничего не мог дать тебе,
ни совета, ни утешения, ни дружбы, ибо пути наши слишком далеко
разошлись. Да, тогда это скрытое недовольство и горе, которое
ты прятал под самоуверенными речами, не нравились, мешали мне,
казались, откровенно говоря, отталкивающими; в них
чувствовались притязания на участие и сострадание, чему все
твое поведение явно противоречило, в нем было что-то
навязчивое, что-то ребяческое. Так мне казалось, и это остужало
мои чувства. Ты предъявлял претензию на мою дружбу, ты хотел
быть касталийцем, но был при этом столь несдержанным, странным,
столь погруженным в свои эгоистические переживания! Таково было
мое суждение, ибо я отлично видел, что касталийского в тебе
почти ничего не сохранилось, ты явно забыл даже основные
каноны. Что ж, это меня не касалось. Но зачем ты тогда явился в
Вальдцель и пожелал приветствовать нас как товарищей? Вот что
вызывало во мне раздражение и противодействие, и ты был
совершенно прав, поняв мою подчеркнутую вежливость как отпор.
Да, я инстинктивно давал тебе отпор, и не потому, что ты был
мирянином, а потому, что ты притязал на звание касталийца.
Когда же ты после долгих лет отсутствия недавно появился здесь
снова, в тебе ничего подобного больше не ощущалось, ты выглядел
мирянином и говорил, как говорят пришельцы из внешнего мира, но
особенно поразило и тронуло меня выражение печали, заботы или
горя на твоем лице. Все это -- твое поведение, слова, даже
грусть твоя -- меня подкупало, было прекрасно, шло тебе, было
тебя достойно, ничто уже не вызывало досаду, я мог принять и
одобрить тебя без малейшего противоречия; на сей раз не
требовалось ни подчеркнутой вежливости, ни сдержанности, вот
почему я сразу встретил тебя как друга и всячески старался
выразить тебе свою любовь и сочувствие. На сей раз все
сложилось не так, как тогда, скорее я искал твоей дружбы и
добивался ее, а ты замкнулся в себе, но все же я про себя
воспринял твое появление в пашей Провинции и твой интерес к ее
судьбе как знак привязанности и верности. В конце концов и ты
пошел мне навстречу, и вот теперь мы можем открыть друг другу
душу и, хочу верить, возобновить нашу былую дружбу.
нашу юношескую встречу, для меня же она якобы была безразлична.
Не будем об этом спорить, пусть ты прав. Но теперешняя наша
встреча, amice, далеко мне не безразлична, она значит для меня
гораздо больше, нежели я могу тебе сегодня поведать и нежели ты
можешь себе представить. Она значит для меня, уж если говорить
начистоту, не только новообретение утраченного друга и тем
самым воскрешение минувших времен, откуда я могу почерпнуть
новую энергию для новых преображений. Она значит для меня,
прежде всего, зов, шаг навстречу, она открывает передо мной
путь в ваш мир, ставит меня вновь перед старой проблемой:
синтеза между нами и вами. И происходит это, поверь, в самую
подходящую для меня минуту. На сей раз я не останусь глух, ухо
мое стало отзывчивей, чем когда бы то ни было, ибо ты меня, в
сущности, не застал врасплох, зов твой не кажется чем-то
чуждым, пришедшим извне, перед чем можно открыться или
замкнуться, он как бы исходит из самого меня, это как бы ответ
на сильное и все более настойчивое желание, на нужду мою и
страстную мою тоску. Но об этом в другой раз., уже поздно, нам
обоим нужен отдых,
решил, кажется, что я не способен понять твою, как ты ее
называешь, "жалобу" -- даже сегодня, ибо я отвечаю на нее
улыбкой. Тут я чего-то не понимаю. Почему нельзя выслушать
жалобу весело, почему на нее, вместо улыбки, нужно отвечать
тоже печалью? Ты со своими заботами, со своей бедой опять
пришел в Касталию, ко мне, и я вправе заключить из этого, что
тебя притягивает именно наша безмятежная ясность духа. Если я
не могу разделить с тобой твои печали и горести и заразить себя
ими, из этого отнюдь не следует, что я не уважаю их и не
отношусь к ним серьезно. Я полностью принимаю твой облик и
печать, наложенную на него твоей жизнью и судьбой, это твоя
доля, она -- твоя, и она мила мне и дорога, хоть я и надеюсь
увидеть ее изменившейся. Как возник такой облик, я могу лишь
догадываться, когда-нибудь ты мне расскажешь ровно столько,
сколько сочтешь нужным, умолчав об остальном. Я вижу только
одно: тебе, как видно, живется тяжко. Но откуда ты взял, что я
на хочу и не могу правильно понять тебя и твои горести? Лицо
Дезиньори снова потемнело.
не только по-разному выражаем свои мысли и говорим на разных
языках, причем перевести один на другой можно лишь
приблизительно, но что мы вообще будто два вовсе различных
существа, которые никогда не будут в состоянии понять друг
друга. И кто из нас, в сущности, настоящий, полноценный человек
-- ты или я, а может быть, ни ты, ни я -- всегда останется для
меня спорным. Было время, когда я взирал на вас, членов Ордена,
снизу вверх, с трепетом, испытывая чувство своей
неполноценности, и завидовал вам, вечно исполненным светлой
радости, вечно играющим, вечно наслаждающимся собственным
бытием, смотрел на вас, как на богов, недоступных страданию,
как на сверхчеловеков. В другие дни вы мне казались достойными
то жалости, то презрения, бесполыми, искусственно обреченными
на вечное детство, ребячливыми и ребяческими в своем
бесстрастном, тщательно отгороженном, чистенько убранном
игрушечном мирке, наподобие детского сада, где заботливо
вытирают каждому нос, где укрощают и подавляют всякое
недозволенное движение чувства или мысли, где всю жизнь играют
в пристойные, неопасные, бескровные игры, где любой здоровый
проблеск жизни, любое большое чувство, любую истинную страсть,
любое волнение сердца контролируют и врачуют медитацией,
отгоняют и обезвреживают. Разве это не искусственный,
стерилизованный и по-школьному ограниченный мир, половинчатый и
призрачный, в котором вы здесь трусливо прозябаете, мир без
пороков и страстей, без голода, без соков и соли, мир без
семьи, без материнской ласки, без детей, почти без женщин?
Жизнь чувственную вы обуздываете медитацией, рискованные и
головоломные вещи, за которые трудно нести ответственность,
каковы хозяйство, судопроизводство, политика, вы уже многие
поколения предоставляете другим; малодушные, благополучные, не
знающие ни забот о куске хлеба, ни слишком обременительных
обязанностей, вы ведете паразитическое существование и от скуки


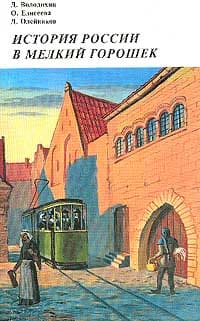
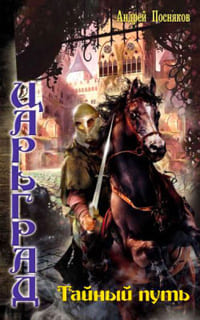
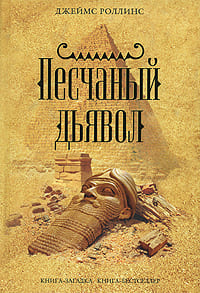

 Мурич Виктор
Мурич Виктор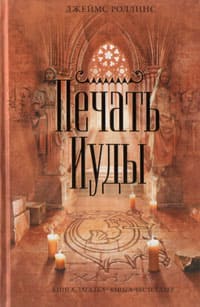 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Глуховский Дмитрий
Глуховский Дмитрий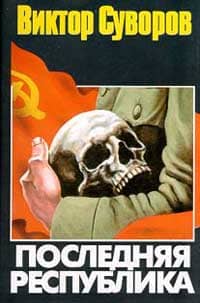 Суворов Виктор
Суворов Виктор Пехов Алексей
Пехов Алексей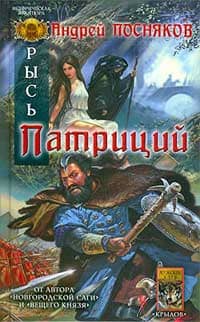 Посняков Андрей
Посняков Андрей