предмет чистой мысли. Чистая, абстрактная мысль меньше всего участвует в
создании мифа. Уже Вундт1 хорошо показал, что в основе мифа лежит
аффективный корень, так как он всегда есть выражение тех или других
жизненных и насущных потребностей и стремлений. Чтобы создать миф, меньше
всего надо употреблять интеллектуальные усилия. И опять-таки мы говорим не о
теории мифа, а о самом мифе как таковом. С точки зрения той или иной теории
можно говорить о мыслительной работе субъекта, создающего миф, об отношении
ее к другим психическим факторам мифообразования, даже о превалировании ее
над другими факторами и т.д. Но, рассуждая имманентно, мифическое сознание
есть меньше всего интеллектуальное и мыслительно-идеальное сознание. У
Гомера (Od. XI, 145 слл.) изображается, как Одиссей спускается в Аид и
оживляет на короткий срок обитающие там души кровью. Известен обычай
побратимства через смешение крови из уколотых пальцев или обычаи окропления
кровью новорожденного младенца, а также употребление крови убитого вождя и
пр. Спросим себя: неужели какое-то мыслительно-идеальное построение понятия
крови заставляет этих представителей мифического сознания относиться к крови
именно так? И неужели миф о действии крови есть только абстрактное
построение того или другого понятия? Мы должны согласиться, что здесь ровно
столько же мысли, сколько и в отношении, например, к красному цвету,
который, как известно, способен приводить в бешенство многих животных. Когда
какие-нибудь дикари раскрашивают покойника или намазывают свои лица перед
битвой красной краской, то ясно, что не отвлеченная мысль о красном цвете
действует здесь, но какое-то иное, гораздо более интенсивное, почти
аффективное сознание, граничащее с магическими формами. Было бы совершенно
ненаучно, если бы мы стали мифический образ Горгоны, с оскаленными зубами и
дико выпученными глазами, - это воплощение самого ужаса и дикой,
ослепительно-жестокой, холодно-мрачной одержимости - толковать как результат
абстрактной работы мыслителей, вздумавших производить разделение идеального
и реального, отбросить все реальное и сосредоточиться на анализе логических
деталей бытия идеального. Несмотря на всю вздорность и полную фантастичность
такого построения, оно постоянно имеет место в разных "научных" изложениях.
обыкновенных, житейских психологических категорий. Переводя цельные
мифические образы на язык их абстрактного смысла, понимают цельные
мифически-психологические переживания как некие идеальные сущности, не
внимая к бесконечной сложности и противоречивости реального переживания,
которое, как мы увидим впоследствии, всегда мифично. Так, чувство обиды,
чисто вербально вскрываемое в наших учебниках психологии, всегда трактуется
как противоположность чувству удовольствия. Насколько условна и неверна
такая психология, далекая от мифизма живого человеческого сознания, можно
было бы показать на массе примеров. Многие, например, любят обижаться. Я
всегда вспоминаю в этих случаях Ф.Карамазова: "Именно, именно приятно
обидеться. Это вы так хорошо сказали, что я и не слыхал еще. Именно, именно
я-то всю жизнь и обижался до приятности, для эстетики обижался, ибо не
только приятно, да и красиво иной раз обиженным быть; - вот что вы забыли,
великий старец: красиво! Это я в книжку запишу!"vii В абстрактно-идеальном
смысле обида есть, конечно, нечто неприятное. Но жизненно это далеко не
всегда так. Совершенно абстрактно (приведу еще пример) наше обычное
отношение к пище. Вернее, абстрактно не самое отношение (оно волей-неволей
всегда мифично и конкретно), а нежизненно наше желание относиться к ней,
испорченное предрассудками ложной науки и унылой, серой,
обывательски-мещанской повседневной мысли. Думают, что пища и есть пища и
что об ее химическом составе и физиологическом значении можно узнать в
соответствующих научных руководствах. Но это-то и есть засилие абстрактной
мысли, которая вместо живой пищи видит голые идеальные понятия. Это -
убожество мысли и мещанство жизненного опыта. Я же категорически утверждаю,
что тот, кто ест мясо, имеет совершенно особое мироощущение и мировоззрение,
резко отличное от тех, кто его не ест. И об этом я мог бы высказать очень
подробные и очень точные суждения. И дело не в химии мяса, которая, при
известных условиях, может быть одинаковой с химией растительных веществ, а
именно в мифе. Лица, не отличающие тут одно от другого, оперируют с
идеальными (да и то весьма ограниченными) идеями, а не с живыми вещами.
Также мне кажется, что надеть розовый галстук или начать танцевать для иного
значило бы переменить мировоззрение, которое, как это мы еще увидим в
дальнейшем, всегда содержит мифологические черты. Костюм - великое дело. Мне
рассказали однажды печальную историю об одном иеромонахе *** монастыря. Одна
женщина пришла к нему с искренним намерением исповедоваться. Исповедь была
самая настоящая, удовлетворившая обе стороны. В дальнейшем исповедь
повторялась. В конце концов исповедальные разговоры перешли в любовные
свиданья, потому что духовник и духовная дочь почувствовали друг к другу
любовные переживания. После долгих колебаний и мучений оба решили вступить в
брак. Однако одно обстоятельство оказалось роковым. Иеромонах, расстригшись,
одевши светский костюм и обривши бороду, явился однажды к своей будущей жене
с сообщением о своем окончательном выходе из монастыря. Та встретила его
вдруг почему-то весьма холодно и нерадостно, несмотря на долгое страстное
ожидание. На соответствующие вопросы она долго не могла ничего ответить, но
в дальнейшем ответ выяснился в ужасающей для нее самой форме: "Ты мне не
нужен в светском виде". Никакие увещания не могли помочь, и несчастный
иеромонах повесился у ворот своего монастыря. После этого только
ненормальный человек может считать, что наш костюм не мифичен и есть только
какое-то отвлеченное, идеальное понятие, которое безразлично к тому,
осуществляется оно или нет и как осуществляется.
дальнейшем), но уже и сейчас видно, что там, где есть хотя бы слабые задатки
мифологического отношения к вещи, ни в каком случае дело не может
ограничиться одними идеальными понятиями. Миф - не идеальное понятие, и
также не идея и не понятие. Это есть сама жизнь. Для мифического субъекта
это есть подлинная жизнь, со всеми ее надеждами и страхами, ожиданиями и
отчаянием, со всей ее реальной повседневностью и чисто личной
заинтересованностью. Миф не есть бытие идеальное, но - жизненно ощущаемая и
творимая, вещественная реальность и телесная, до животности телесная
действительность2.
но принципиально они никогда не тождественны Предыдущее учение об
идеальности мифа особенно резко проявляется в понимании мифологии как
первобытной науки. Большинство ученых во главе с Кантом, Спенсером, даже
Тейлором, думает о мифе именно так и этим в корне искажает всю подлинную
природу мифологииviii. Научное отношение к мифу как один из видов
абстрактного отношения, предполагает изолированную интеллектуальную функцию.
Надо очень много наблюдать и запоминать, очень много анализировать и
синтезировать, весьма и весьма внимательно отделять существенное от
несущественного, чтобы получить в конце концов хоть какое-нибудь
элементарное научное обобщение. Наука в этом смысле чрезвычайно хлопотлива и
полна суеты. В хаосе и неразберихе эмпирически спутанных, текучих вещей надо
уловить идеально-числовую, математическую закономерность, которая хотя и
управляет этим хаосом, но сама-то не есть хаос, а идеальный, логический
строй и порядок (иначе уже первое прикосновение к эмпирическому хаосу было
бы равносильно созданию науки математического естествознания). И вот,
несмотря на всю абстрактную логичность науки, почти все наивно убеждены, что
мифология и первобытная наука - одно и то же. Как бороться с этими
застарелыми предрассудками? Миф всегда чрезвычайно практичен, насущен,
всегда эмоционален, аффективен, жизненен. И тем не менее думают, что это -
начало науки. Никто не станет утверждать, что мифология (та или иная,
индийская, египетская, греческая) есть наука вообще, т.е. современная наука
(если иметь в виду всю сложность ее выкладок, инструментария и аппаратуры).
Но если развитая мифология не есть развитая наука, то как же развитая или
неразвитая мифология может быть неразвитой наукой? Если два организма
совершенно несходны в своем развитом и законченном виде, то как же могут не
быть принципиально различными их зародыши? Из того, что научную потребность
мы берем здесь в малом виде, отнюдь не вытекает того, что она уже не есть
научная потребность. Первобытная наука, как бы она ни была первобытна, есть
все же как-то наука, иначе она совершенно не войдет в общий контекст истории
науки и, следовательно, нельзя ее будет считать и первобытной наукой. Или
первобытная наука есть именно наука, - тогда она ни в каком случае не есть
мифология; или первобытная наука есть мифология, - тогда, не будучи наукой
вообще, как она может быть первобытной наукой? В первобытной науке, несмотря
на всю ее первобытность, есть некоторая сумма вполне определенных
устремлений сознания, которые активно не хотят быть мифологией, которые
существенно и принципиально дополняют мифологию и мало отвечают реальным
потребностям последней. Миф насыщен эмоциями и реальными жизненными
переживаниями; он, например, олицетворяет, обоготворяет, чтит или ненавидит,
злобствует. Может ли быть наука таковой? Первобытная наука, конечно, тоже
эмоциональна, наивно-непосредственна и в этом смысле вполне мифологична. Но
это-то как раз и показывает, что если бы мифологичность принадлежала к ее
сущности, то наука не получила бы никакого самостоятельного исторического
развития и история ее была бы историей мифологии. Значит, в первобытной
науке мифологичность является не "субстанцией", но "акциденцией"; и эта
мифологичность характеризует только ее состояние в данный момент, а никак не
науку саму по себе. Мифическое сознание совершенно непосредственно и наивно,
общепонятно; научное сознание необходимо обладает выводным, логическим
характером; оно - не непосредственно, трудно усвояемо, требует длительной
выучки и абстрактных навыков. Миф всегда синтетически-жизненен и состоит из
живых личностей, судьба которых освещена эмоционально и интимно ощутительно;
наука всегда превращает жизнь в формулу, давая вместо живых личностей их
отвлеченные схемы и формулы; и реализм, объективизм науки заключается не в
красочном живописании жизни, но - в правильности соответствия отвлеченного
закона и формулы с эмпирической текучестью явлений, вне всякой картинности,
живописности или эмоциональности. Последние свойства навсегда превратили бы
науку в жалкий и малоинтересный привесок мифологии. Поэтому необходимо надо




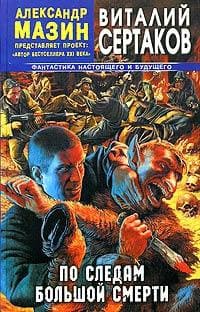

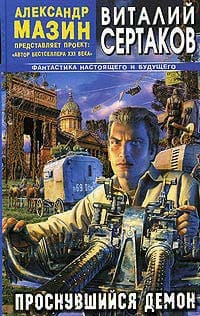 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Каргалов Вадим
Каргалов Вадим Посняков Андрей
Посняков Андрей Акунин Борис
Акунин Борис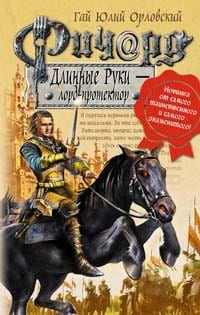 Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий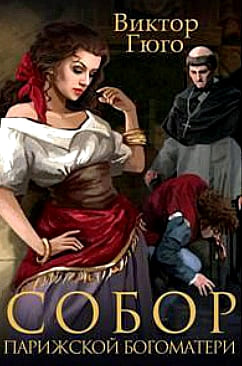 Гюго Виктор
Гюго Виктор