должна быть положена в само основание познания, ибо только от нее зависит
познание всех вещей, будь они чувственные, или духовные, или нечувственные.
И вот теперь начинается сложный пункт, и убей меня, если это действительно
можно понять без "лебеды". Слушайте внимательно: "Откуда мы знаем, например,
что небо существует? Потому что мы его видим? - спрашивает Декарт. - Но ведь
это видение имеет отношение к духу или к сознанию, если только оно является
идеей"36.
что он есть в мире, он есть, но это не главное. Мы видим мексиканца не
потому, что он есть в мире, хотя он есть в нем. И мы видим небо не потому,
что оно есть, а потому что то, что мы называем "видеть небо", - это идея...
О Боже! - давайте постараемся как-то вместе разобраться, это действительно
невозможная вещь.
утверждающей существование неба, содержится картина, незаконно удваивающая
мир. Значит, есть кто-то еще, какой-то наблюдатель, который видит и небо, и
мое сознание, в котором есть идея неба, и говорит: в твоем сознании идея
неба, так вот - небо существует, оно отразилось в твоем сознании. Но,
продолжает Декарт: "Идея... внутренне присущая самому духу (inherente en
l'esprit meme)". То есть что? Что идея неба в человеческом сознании возможна
без всякого неба? Что она врожденна? Это говорит Декарт? Явно нет. Попробуем
понять, что же он говорит? "...внутренне присущая самому духу, а не образ
(или материальная вещь. - М.М.), нарисованный в нашем воображении...".
являлась одновременно копией большого предмета в мире - этакий уменьшенный
гомункулус предмета. Имея "такую идею, мы не можем судить, что небо
существует, если не считали бы, что всякая идея должна иметь причину своей
объективной реальности, каковой, - говорит Декарт, т.е. причиной, - ... мы
считаем само небо"37.
как формальная реальность, а формальная реальность - это не небо как
физический предмет, видимый там, где мы сопоставляем предмет и отражение, в
картине воздействия предмета на отражающее устройство, а - прошлое, синтез.
Ведь смысл того, что это - мексиканец, не является элементом, наряду с
другими элементами, из которых составлен мексиканец (шляпа, крыло
велосипеда, еще крыло, видимое сверху). Здесь нет непрерывного перехода от
материального содержания ни одного из этих элементов к общему их
концептуальному смыслу, который мы извлекли; мы не имеем права объяснять
видение неба указанием на то, что оно существует вне нас. Объяснение должно
состоять в реконструкции синтеза, который происходит в нашей сознательной
жизни. Короче говоря, каждый элемент движения кристаллизации мексиканца (а
не просто круга, положенного на палку) мы должны понимать, не применяя
процедуру сопоставления наглядной картины и воздействия мира, потому что там
предполагается знание нами мира со стороны. А откуда само это знание? Неужто
есть еще какой-то третий наблюдатель, который видит нас, и наши наблюдения,
и мир, который мы наблюдаем? Каким же образом он способен тогда сообщать нам
свои знания? И откуда он вообще берет эти знания, кроме, кстати говоря, как
не от нас самих, включенных в это движение, и из которого как бы выпадают в
осадок различные элементы, на которых потом можно проанализировать смысл
термина "мексиканец". Так вот, в этих элементах, которые можно
проанализировать со стороны движения, в каждом из них есть все остальные, их
смысл. Они как бы входят друг в друга. Представьте себе китайские предметы
или вещи такой тонкой работы, что понять ничего невозможно, и они еще
"вложены" друг в друга. Я не понимаю, зачем это делалось, но делалось,
хотелось. (Бергсон в этом случае употребил бы, очевидно, термин imbrication
- наслоение.) Если я один элемент называю "колесом", то это уже мексиканец
на колесе. Если называю другой "шляпой", то это уже мексиканец на
велосипеде. То есть каждый отдельный элемент сам является при этом, как в
голограмме, представлением всего предмета. Такова очень причудливая картина
того, как мы вообще обозначаем предметы именами.
"чистому концепированию". Что память предполагает фиксирование того, что
предмет, который запоминается, - нов; он запоминается потому, что есть
осознание того, что мы видим его впервые. И Декарт замечает, что это
осуществляется путем чистого концепирования (я предпочитаю говорить
"концепирование", потому что у французского слова conception более активный
смысл, нежели у его русского эквивалента), так как не может быть никакого
следа новизны. Запоминание предполагает параллельный или дополнительный акт
чистого концепирования. Он не может быть пояснен никаким указанием на
свойства предмета. По отношению к концепированию предметы взаимозаменимы,
они - тождественные экземпляры, обмен между которыми, как выразился однажды
Ю.М.Лотман, не имел бы смысла. Эта идея была высказана им в контексте
обсуждения феномена искусства. Ну, естественно, если, скажем, мы обмениваем
одну художественную вазу на другую, такой же ценности, то это не имеет
смысла. Поскольку очевидно, что художественно только то, что единично.
Сейчас я поясню это физическим примером.
в ранние времена генетики, - "Что такое жизнь?" (в русском переводе она
вышла в 40-е годы, не помню, когда точно). И он обсуждал в ней фактически
эту же проблему. Он говорит, показывает там, что в самой физике есть одна
вещь (о которой говорил и Декарт), что ставит на кон или под вопрос всю
физику, а именно: проблема длительности, сохранения единичных конфигураций.
Шрёдингер пишет в своей книге, что пока мы не понимаем, почему эти единичные
конфигурации пребывают, длятся, очевидно, имея в виду на фоне своего
сознания как раз эту идею (поскольку он был человек умный и у него был этот
фон сознания, без которого ума не бывает), потому что вдруг о знаменитой
проблеме обмена веществ он говорит следующее: простите, если действительно
жизнь - это обмен веществ, то определение бессмысленно. Почему? Потому что
одна молекула водорода такая же, как и другая молекула. Какой же смысл им
обмениваться? Если жизнь состоит лишь в этом, то это абсурдно.
Действительно, абсурдно.
синтез сознательной жизни есть со-общение, и в нем не могут обмениваться
одинаковые экземпляры. А у нас они одинаковые, и если так, то мы сознание
пока не определили. И следовательно, не определили и память как явление
сознания. Но мы уже сказали, что у нас запомненный, т.е. увиденный впервые
предмет ничем не отличается (тождествен) от предметов, которые мы видим,
когда смотрим на картину воздействия мира на наше сознание (на наглядную
картину воздействия). Все предметы в этой картине заместимы в своей
последовательности и тождественны. А память может быть произведена только
единичностью, которая, по Декарту, предполагает чистый акт или тавтологию
сознания, т.е. включает в себя рефлексию. Рефлексия есть одна из тавтологий
- сознание сознания. И поэтому можно сказать так: если не узнал, что
случился акт чистого концепирования, то не запомнил, а если запомнил,
значит, тут - предел. Не может быть больше или меньше. Сработало - это уже
сознание сознания. Его не может быть больше или меньше: вы не можете уйти
куда-то вниз, а потом объяснить то, что появляется наверху. Здесь я опять
возвращаю вас к теме атомов-фактов, которую ввел в прошлый раз. И кстати,
вокруг этой темы в XX в., чтобы реконструировать онтологическую машину
мышления, снова установиться в мышлении, как раз и билась мысль Рассела,
Витгенштейна, Гуссерля и т.д.
которой мыслятся соотношения. Например, мы можем, после того как увидели,
разложить мексиканца на элементы: шляпа, переднее крыло велосипеда и т.д.
Без состояния соотношений мы не мыслим. И вот здесь возникает весьма
интересный, роковой и для Декарта, и для Лейбница, и для нас вопрос. Значит,
есть рефлексия, только сознание сознания есть сознание. Ведь мы уже отвергли
для памяти возможность ее обоснования на разнице между предметами, а
разница, единичность должна быть. Декарт говорит, что у нас есть некая
разновидность интеллектуальной памяти. Но в особом, декартовском смысле, а
не в смысле различения между чувственной (мгновенной) и умственной
(длительной) памятью; что есть якобы одна память, чтобы помнить теоремы, и
другая, чтобы помнить людей. Не в этом смысле. Согласно Декарту, всякая
память может быть только интеллектуальной, в силу определения, которое я
приводил, когда указывал на акт, не содержащийся в материальном содержании
того, что мы помним и называем. Поскольку имена не похожи на предметы,
которые обозначены этими именами, и не имеют никакого отношения к
материальной структуре и содержанию предметов, то тот факт, что такой-то
предмет называется таким-то именем, мы можем помнить лишь определенной
разновидностью интеллектуальной памяти. Когда мы видим предмет и называем
его, то, простите, предмет ведь не похож на имя, почему же я это имя выбираю
и присобачиваю к нему? Почему? Если бы имен были, как выражаются в
лингвистике, мотивированы тогда, конечно, вид предмета сразу вызывал бы у
меня это имя. Но ведь предмет не похож на ому Декарт и говорит:
интеллектуальная память концепирование. Я уже отмечал, что мало имею следы,
я еще должен выбрать след в качестве следа того предмета, который я вижу
сейчас. И выбор следа есть дополнительное к его (следа) содержанию явление.
Почему я выбираю именно этот след, когда моя башка забита бесчисленным
множеством материальных следов и отпечатков? Я что - перебираю их все? Но
это же невозможно. Даже если допустить, что я их перебрал и совершил выбор,
то это все равно приводит нас к проблеме единичности. Так как у выбранного
предмета должен быть отличительный признак, выделяющий именно этот предмет.
Вот здесь и содержится роковое обстоятельство, связанное с тем, что мы
существуем во времени встреч с предметами, а там, как я говорил вам, -
колоссальная скорость, все сцепляется мгновенно, и не мы смотрим и переводим
глаза, а весь мир в акте восприятия предмета завращался вокруг нас и
подсунул нам этот предмет. Хотя нам казалось, что это мы повели глазами и
выбрали его.
правильные значения. Я не вижу, не помню, не думаю, но встретился и - бах,


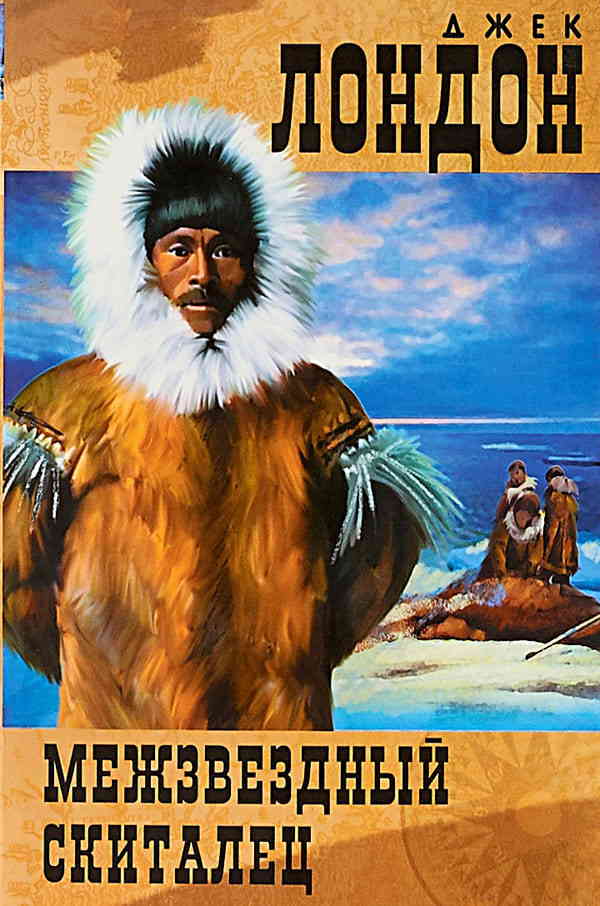



 Трубников Александр
Трубников Александр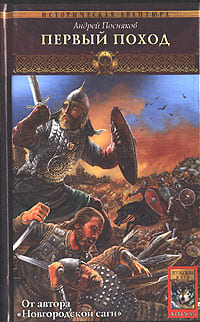 Посняков Андрей
Посняков Андрей Корнев Павел
Корнев Павел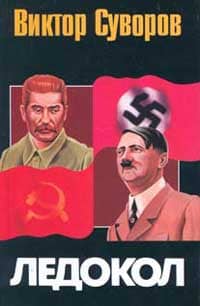 Суворов Виктор
Суворов Виктор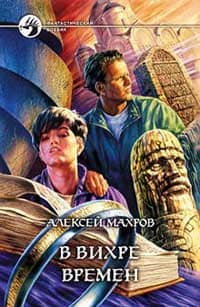 Махров Алексей
Махров Алексей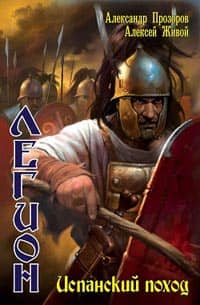 Прозоров Александр
Прозоров Александр