всякого человека, занимающегося мыслью, производящего мысль. Поймем это
слово широко - оно может означать и художественное произведение и
философский трактат. Ибо в искусстве и в философии человек занимается в
конечном счете одним и тем же: отдает себе отчет о самом себе. - Мне
кажется, однако, что сейчас это для многих не столь очевидно. Художественный
текст не воспринимается как продукт мыслящего, философствующего сознания -
особенно в искусствах "невербальных"... - Что ж, у нас есть потребность,
почти мания, все представлять себе наглядно; мы и само мышление сводим к
чисто вербальным операциям. К тому же у нас в памяти крепко сидит
выработанная традицией "номенклатура способностей" человеческих. Мы отличаем
чувства от мыслей, волю от чувства, интуицию от логики, и т.д. и т.д., но на
самом-то деле все эти различия - лишь продукт нашего наблюдения над
мышлением. И еще - исторически существующего "разделения труда". Логика
проста - раз есть различные способности, то им должны соответствовать и
разные "фигуры": ученый, артист, политический деятель... Ну, и философ в том
числе. В действительности же акт мысли совершается в поле глобальных
"связностей" сознания. Мы можем говорить даже о состоянии мысли и понимания.
Давайте раскрутим проблему по порядку. Существует, повторим, некая
внутренняя схема самосознания, я бы сказал, внутренний образ мыслителя. (Тут
можно без всякой натяжки сказать "художник" - он ведь тоже всегда как-то
осознает самого себя, свое место и последствия своего труда в мире, в языке,
в культурной традиции.) И это вот самосознание непременно фиксируется
определенным образом и в стилистике и в самом содержании творчества. Если
этого не учитывать, мы толком не поймем ни, скажем, различия между
классицизмом и романтизмом, ни перехода от реалистического описания к так
называемому модернистскому... И даже нравственные мотивы творца
непосредственно зависят от того, какой образ самого себя он строит и как это
кристаллизуется в "орудийности" творчества. Например, художник может
осознавать и вести себя как пророк и, соответственно, миссионерски
относиться к своему делу, к Слову. Однако надо понять, что подобное
отношение по сути своей социально-утопическое. Что мы и видим на судьбах
нравственно ориентированной русской литературы, которая на такой установке и
держится. Напротив, может быть иное, куда более скромное отношение к слову:
личностно-индивидуальное, когда на первый план выдвигается проблема слова
как такового. Это позиция служения, по скромности своей близкая к так
называемому "искусству для искусства". Вот какой широкий веер возможностей
открывается... - Скромное "искусство искусства"! Однако мы как будто
привыкли считать иначе... И еще, не зависит ли равно от "образа творца" и
то, что мы вычитываем из творения в качестве нравственных импульсов и идей?
- Совершенно верно: мы ожидаем и вычитываем урок - это непременная оборотная
сторона миссионерской установки художника. Он служит не "слову", а "народу",
то есть поучает его, сообщает некую истину о нем самом, которую тот сам
осознать якобы не может по малости своей, - выступая в роли опекаемого
ребенка. А художник (или мыслитель) становится тогда в положение отца,
взрослого попечителя - ты за ребенка думаешь и болеешь, за него совестлив и
разумен. Это давняя, классическая, если угодно, установка. И в моем
понимании - сугубо недемократическая. Служение же слову как таковому куда
более скромно, предполагает личную ответственность и равноправие с внимающим
тебе, что кажется мне одной из побед демократичности в сфере искусства,
культуры вообще. - И тогда, получается, "чистое искусство" - вовсе не такие
уж высокомерно-эстетские, самоценные игры, отрешенные от читателя и зрителя.
Напротив, оно просто требует соучастия, вовлекая в диалогические отношения.
Впрочем, простите, я все время перебиваю... - Нет, нет это очень хорошо -
определяет русло разговора, показывая возможность отклика и понимания. Если
я стану вещать что-то, что в душе собеседника не "варится" уже само по себе,
если он не будет узнавать что-то свое в моих словах - тем самым я нарушу как
раз принцип демократизма, который вообще, по моему убеждению, должен быть
свойствен именно современной, во многом изменившейся, по сравнению с
классической, форме интеллектуального труда. - Какая "реальная философия"
стоит за нашими теперешними умонастроениями и даже чувствованиями? - Знаете,
если я сегодня, здесь и сейчас желаю понять, где я и куда иду вместе с моими
согражданами, то должен начать с одного пункта: в XX веке со всеми нами
случилось что-то, чего нельзя ни забыть, ни простить... Но притом есть еще
одно условие моего размышления. Наши сегодняшние проблемы не сегодня
возникли. Они, скажем так, имеют большую временную размерность. И, описывая
современную нам ситуацию вне этой размерности, не восстанавливая ее, мы
окажемся попросту беспомощны в понимании того, что же с нами происходит.
помня истинную размерность, в которой реально стоят наши проблемы, я должен
буду говорить о вещах, кажется, далеких, на деле же - ближайшим образом нас
касающихся.
Идей, движущих нацию, страну, цивилизацию. Как только я произношу слово
"идея" в контексте русской истории, я автоматически помещаю всю нашу
проблематичность, в, скажем так, "чаадаевскую точку". Именно Чаадаев впервые
у нас философски озаботился тем, насколько Россия вообще участвует в идейном
движении человечества, чем воодушевлена сама, куда движется. (По Чаадаеву,
всякое возможное движение организовано вокруг христианской оси. Однако мы
сейчас можем отвлечься от такого уточнения.) Но вопрос об идеях как таковых
неимоверно усложнился. Радикально изменился их состав, и изменилась сама
структура производства идей. Оказалось, что они могут производится в
обществе не мыслителями, не художниками, не интеллигенцией, а - массами. То
есть идеи стали производиться не в специализированной сфере, не внутри науки
или искусства, а как бы спонтанировать в массовом сознании.
Некоторые эманации "почвы" стали перефразироваться как бы "духовно-идейно",
но вовсе не по тем внутренним законам, по которым продуцируются идеи. И вот
тут я касаюсь еще одной интересной "точки", важнейшего для меня эпизода
нашей духовной истории - опыта Достоевского. Он являет нам как бы первый
пример современного интеллектуального труда. Понимаете ли, он в себе
обнаруживает некоторые идеи, представления, нравственные структуры, которые
вовсе не сложились по привычным законам идей или нравственных структур.
инстинктов русской толпы того времени. Например, странное, фантастическое
почтение к "униженным и оскорбленным". Он первым поставил под вопрос эту
манию, литературную и общеинтеллигентскую (вовсе, кстати сказать, не такую
демократичную, как кажется на первый взгляд). Он обратил внимание на то, что
нищета - это ведь тоже обладание, тоже своего рода гордыня и способ
угнетения других. И, "обладая нищетой", можно быть таким же негодяем, какого
формирует обладание богатством. В то время как в интеллигентском общем
мнении почти автоматически предполагалось: если человек беден, то, по
определению, прост и честен, коли плохо одет и социально унижен, значит -
носитель добродетели и здравого смысла... Дело даже не в том, истинно это
или ложно, а в том, что тут работают некие априорные и почти бессознательные
установки, существующие в уже "готовом" виде и жестко задающие кодекс
поведения.
водоворот, из которого выходят в совершенно непредсказуемом обличье. Всякая
настоящая мысль или характеристика персонажа у него не "предзаданы", а
являются лишь в раскале пишущегося текста - рождаются лишь в движении ума и
души. Потому и проблема "бесов", например, для него есть проблема скорее
определенного строения души, чем социальных противостояний... Но такой
"духовный опыт" Достоевского в свой исторический миг роковым образом
остался, если угодно, почти неусвоенным, "пропущенным" русской
интеллигенцией. - Похоже, что так. Но почему вы это так прямо связываете с
"проблемой идей", о которой мы повели речь? - Для Достоевского
содержательная привлекательность идеи не была сама собой разумеющимся
критерием. Требовалось узнать еще, каков тот, кто ее высказывает, какие у
него имеются на то внутренние права и основания. И понять, можно ли вообще
учить других на основе лишь неких высоких идей, не поставив на карту всего
себя. В конечном счете речь о том, можно ли строить жизнь общества, космоса
на - если воспользоваться терминами Достоевского - евклидовой площадочке
малюсенького человеческого ума. - Надо, видимо, уточнить, что здесь не
уничижение "человеческого ума" вообще, а прозрение о его многосоставности. И
понимание, что это прозрение потом непредсказуемо откликается в дальних и
глобальных последствиях. - В структуре сознания и самих идей имеет место как
раз многосоставность, или многоуровневость. И это-то ставит перед мыслителем
во весь рост проблему ответственности. Понять, каким сложным и деликатным
инструментом мы пользуемся и к каким последствиям может привести вольное с
ним обращение, есть первейшая обязанность профессионала (а таковым сочтем и
художника, разумеется).
совершается с полным сознанием его сложности и особого положения в
мироздании, то становятся попросту невозможными выражения, которыми пестрит,
к сожалению, наш обиход: я не думал, я не хотел, не предполагал... Они
становятся невозможными в языке интеллектуалов страны, если воспитана
подлинная ответственность, если есть традиция "думания", отвлеченного
мышления...
этой ответственности. Я не понимаю, как человек интеллигентный может быть не
способен, хоть частично, отождествить себя с неким высшим судьей, который
видит в нем все до дна. Ведь "нормальный" человек несет в себе бесчисленные
замещающие образования, подстановки - между действительным своим состоянием
и тем, как он его видит. Считает, что любит, а в действительности -
ненавидит. Но беда в том, что и в сознании интеллигенции полным-полно таких
замещений. В сфере слова это оборачивается тем, что люди Бога не боятся,
попросту говоря. Не испытывают страха и стыда перед некоторой высшей
инстанцией. Перед истиной. Но без этого не выстраивается никакая нормальная
структура сознания, не складывается иерархия ценностей в нем. Ты можешь
занять определенное место в мироздании, только если в себе или перед собой




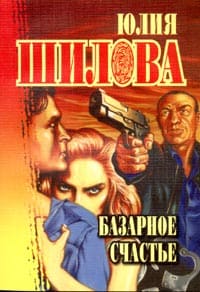
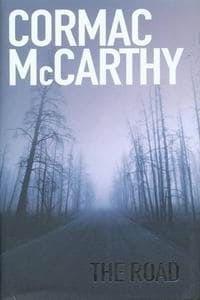
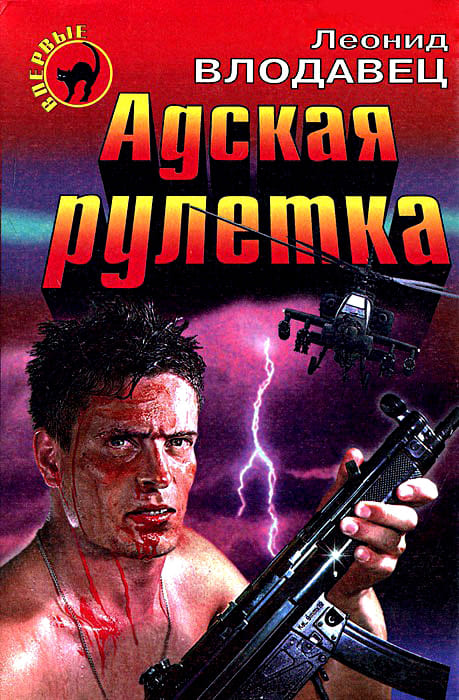 Влодавец Леонид
Влодавец Леонид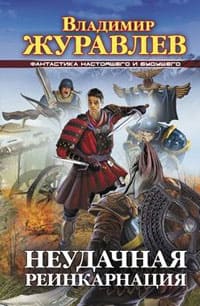 Журавлев Владимир
Журавлев Владимир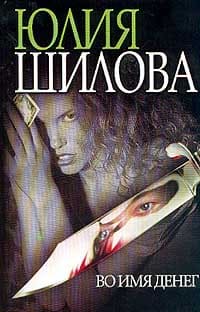 Шилова Юлия
Шилова Юлия Сертаков Виталий
Сертаков Виталий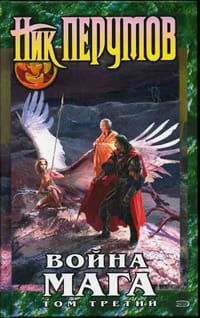 Перумов Ник
Перумов Ник Шилова Юлия
Шилова Юлия