в себя и спросить: а почему, собственно, я злюсь? Ведь в самой злобе есть
что-то и обо мне. Направленная на внешние предметы, в действительности она
что-то говорит или пытается сказать и о нас самих, о том, чтo есть на самом
деле; что происходит и в нас и вне нас. И вот наше дальнейшее движение,
связанное с продолжением переживания, оторвавшись от наших реактивных
изживаний, идет уже на костылях, на помочах понятий.
вопроса о страдании. Понимаете, та точка, в которой ты остановился, - это,
грубо говоря, не геометрически идеальная точка. Эта точка как бы является
началом какого-то колодца, колодца страданий. И в жизни мы часто проходим
мимо такого колодца, видя на его месте просто точку. Хотя на самом деле эта
точка и была знаком остановки, знаком того, что в другом измерении, в другой
перспективе, там - колодец. Для того, чтобы пояснить свою мысль, сошлюсь на
"Божественную комедию". Как известно, поэма Данте - это не что иное, как
символическая запись странствий души, или один из первых европейских
романов, посвященных воспитанию чувств. Уже в самом начале этой поэмы мы
сталкиваемся с потрясающим образом. Как вы помните, она начинается с фразы,
что ее герой в середине жизненного пути оказывается в темном сумрачном лесу.
Середина пути - важная пометка. Веха. 33 года - это возраст Христа. Когда
его распяли. Этот возраст часто фиксируется в поэзии.
вершине горы. Гора - символ возвышенного, духовного рая. Но достичь его
можно, только пройдя лес. Казалось бы, один шаг, протянутая рука отделяют
героя от вершины. Вершина - как бы преднамеренная его цель. Но все то, что
происходит с героем дальше, говорит о том, что то, к чему идешь, не может
быть получено преднамеренно.
самого себя. Если вы помните, вначале дорогу герою преграждает волчица.
Символы - орудия нашей сознательной жизни. Они - вещи нашего сознания, а
вовсе не аналогии, не сопоставления, не метафоры. Волчица - символ скупости,
жадности. Какая же скупость имеется в виду? Естественно, наша предельная,
действительная скупость в отношении нас самих. Мы бережем себя как самое
драгоценное сонровище. Но какого себя? В данном случае - устремленного к
возвышенному, сознающего себя возвышенным, ищущего высшего смысла жизни,
высшей морали. А на поверку - все это просто скупость и жадность. И что же
происходит с героем дальше? Он пошел. Но куда? Вовнутрь. Спустился в колодец
страдания и, перевернувшись, возвратился обратно. И при этом оказался там
же, но только уже под другим небом. Он - на горе.
самым большим для себя возлюбленным, то ничего не произойдет. Кстати, не
случаен в этой связи и евангельский символ: тот, кто отдает свою душу, ее
обретет, а кто боится потерять, тот теряет.
котором могут совершаться и совершаются события нашей сознательной жизни, -
очевидно.
возвышенным, мне нужно изменить. Что к моменту, когда должно что-то
произойти, я должен стать иным, чем был до этого. И тогда в
трансформированном состоянии моего сознания может что-то возникнуть,
появиться. Сыграет какая-то самосогласованная жизнь бытия, реальности, как
она есть на самом деле. Но для этого я должен быть открыт, не беречь, отдать
себя, быть готовым к чему-то, к чему я не смог бы прийти собственными
силами; чего не смог бы добиться простым сложением механических усилий. По
определению. Ведь анализу поддается только то, что может быть нами создано
самими. То, что мы можем создать, то можем и проанализировать. А здесь
попробуй получить это. Невозможно. И, более того, происшедшее, вспыхнувшее
(помните, я сказал, что философский акт - это некая вспышка сознания),
невозможно повторить: раз нельзя выразить словами, значит, нельзя и
повторить. Поэтому отсюда появляется еще один символ - символ мига,
мгновения. Но не в смысле кратности времени. Это мгновение как пик, вершина,
господствующая над всем миром. И только оказавшись в этом миге сознания и
осознав вопросы, мы можем считать, что они осмысленны, т.е. не относятся к
той категории вопросов, о которых сказано, что один дурак может задать их
столько, что и миллион мудрецов не ответит. Такова опасность дурацких
состояний возвышенного, в которых мы самоудовлетворяемся, самоисчерпываемся.
Или полны гордости, раз вообще способны судить, что такое жизнь, каков смысл
жизни или что такое субстанция. - И что же советуют философы? Как они
выходят из этого положения? - Декарт говорил, что если нет оснований, то
можно доказать все. В его жизни, кстати говоря, был такой случай. Как-то
его, еще совсем молодого, пригласили в дом одного кардинала. И там было
устроено что-то вроде диспута, в ходе которого Декарт взялся доказать, что
можно доказать все что угодно. При этом он указал на существование
вербального мира - того, о котором я уже упоминал, и дал понять, что в
принципе всегда на любой данный момент есть все нужные слова. И если
заниматься словами, то в общем-то можно создать безупречную конструкцию чего
угодно. Все, что случается в действительности, будет на эту конструкцию
похоже, поскольку в ней есть все слова. Но нужны основания. А что он понимал
под основаниями? Конечно, не нечто натуральное, не какую-то общую причину
мира, субстанцию субстанций и т.д. Основанием для него являлось наше
вербальное состояние очевидности, но кем-то обязательно уникально
испытанное.
следовательно, есть бытие. И наоборот: бытие, мир устроены так, что акт
такого рода моей непосредственной очевидности, казалось бы, невозможен как
логическое предположение или вывод из наличных знаний. Возможность, что это
все-таки может случиться, есть всегда допущение, условность, случайность,
присущая самому устройству мира. Мир устроен так, что такая непосредственная
очевидность возможна без знания всего мира. Или, чтобы было понятнее, скажу
иначе: мир устроен так, что в нем всегда возможна, например,
непосредственная очевидность нравственного сознания, не нуждающегося в
обосновании и объяснениях. И, скажем, Кант не случайно видел заслугу Руссо в
том, что тот поставил этику выше всего на свете. В том смысле, что есть
некоторые этические достоверности, которые не зависят от прогресса науки и
знания. Но они возможны в силу устройства мира. Главное - не считать себя
лишним в этом мире.
некая великая теория, объясняющая нам, что такое любовь, что такое мысль,
что такое причина и т.д. Ведь ясно, что если бы это было так, то было бы
совершенно лишним переживать, например, чувство любви. Но мы же все-таки
любим. Несмотря на то, что, казалось бы, все давно известно, все пережито,
все испытано! Зачем же еще мои чувства, если все это уже было и было
миллионы раз? Зачем?! Но перевернем вопрос: значит, мир не устроен как
законченная целостность? И я в своем чувстве уникален, неповторим. Мое
чувство не выводится из других чувств. В противном случае не нужно было бы
ни моей любви, ни всех этих переживаний - они были бы заместимы
предшествующими знаниями о любви. Мои переживания могли бы быть только
идиотическими. Действительность была бы тогда, как говорил Шекспир, сказкой,
полной ярости и шума, рассказываемой идиотом. Значит, мир устроен как нечто,
находящееся в постоянном становлении, в нем всегда найдется мне место, если
я действительно готов начать все сначала.
никогда не приводил цитат, не ссылался на других, но говорил, например, что
всегда есть время в жизни, когда нужно решиться стереть все записи прошлого
опыта, не улучшать, не дополнять что-то, не чинить, например дом, по
основанию которого прошла трещина, а строить его заново. Эта мысль
текстуально совпадает с первым монологом Гамлета. Слова клятвы Гамлета перед
тенью отца звучат по смыслу так: под твоим знаком я сотру все записи опыта
на доске моего сознания и построю все сначала и в итоге, под знаком Бога,
узнаю истину. - Наша сегодняшняя практика преподавания философии, пожалуй,
полностью пренебрегает первой половиной дуги, связанной, как вы говорите, с
человеческим индивидуальным переживанием в жизни. Овладевая категориями
философии, человек не наполняет их соответствующим содержанием и поэтому
волей-неволей вынужден впадать в состояние возвышенного умонастроения. Но, с
другой стороны, как эти категории можно помыслить? Или мы имеем здесь дело
просто с немыслимыми мыслями? Но тогда что это?.. - Да, верно, и я думаю,
что существует все же некий пробный камень, с помощью которого можно
определить, мыслимо ли что-то, реальна ли возможность моего собственного
мышления. Например, есть какая-то мысль Платона или Канта. Но мыслима ли она
как возможность моего собственного мышления? Могу ли я ее помыслить как
реально выполненную, не как вербально существующую, а как реально
выполненное состояние моего мышления? Некоторые вербальные записи
мыслеподобных состояний такого испытания не выдерживают, показывая тем
самым, что хотя и есть мыслеподобие, но, строго говоря, это не мысли, потому
что я не могу их исполнять. Ведь мысль существует только в исполнении, как и
всякое явление сознания, как и всякое духовное явление. Она существует,
повторяю, только в момент и внутри своего собственного вновь-исполнения. Ну
таи же, как, скажем, симфония, нотная запись которой, конечно же, еще не
является музыкой. Чтобы была музыка, ее надо исполнить. Бытие симфонии, как
и бытие книги, - это бытие смысла внутри существ, способных выполнить смысл.
А какие мысли оказываются не-мыслями? Те, которые помыслены так, что
исключен тот, кому эта мысль сообщается. Как выражался по этому поводу
Мандельштам, необходим "дальний собеседник". Не ближний, а дальний, для
понимания, например, поэтического акта. Поэтический акт, который не
имитирует дальнего собеседника, не может и совершиться в качестве
поэтического. Это будет квазипоэтический акт. - Что вы имеете в виду под
таким собеседником? - Другую точку человеческого пространства и времени,
человеческого бытия, в которой твой акт может заново возродиться как
возможность мышления, выполненного другим человеком. Возрождение - вот опять
символ, указывающий на некое устойчивое образование. Я уже говорил, что
нужно отказаться от себя, чтобы что-то понять. Отказаться, чтобы






 Русанов Владислав
Русанов Владислав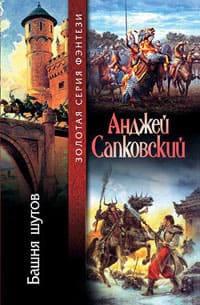 Сапковский Анджей
Сапковский Анджей Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Маккарти Кормак
Маккарти Кормак Николаев Андрей
Николаев Андрей Мацумото Сэйте
Мацумото Сэйте