которые мы наблюдаем у соседей, на Западе. И думаем воспользоваться ими как
внешними, готовыми продуктами. Или думаем, что это просто и есть техника, и
мы, следовательно, можем сами. Но даже "просто техника", как это ни
парадоксально, всегда является продуктом культуры, духовного зерна.
Культурное сознание неделимо и, как уже замечено в литературе, не может один
и тот же мозг, который в своих собственных гражданских, нравственных и
социальных делах оказывается недорослем, дитем малым, вдруг взять и в
физических науках, в сложнейшей технике и т.п. проявить чудеса
изобретательности, самостоятельности и отвлеченного интеллектуального
мужества. Посмотрите, когда естественным образом иссяк человеческий материал
(я имею в виду интеллектуальный и моральный тип ученого, инженера и т.д.),
унаследованный от довоенных и военных лет, какая ситуация сложилась в
теоретической физике, в современной технике, в генетической биологии и
медицине? Дополнительным доказательством этому служат и многочисленные
неудачи механического переноса разных технических новинок из одной страны в
другую. Мы часто по-обезьяньи копируем что-то, а потом это все у нас
ломается, выходит из строя, простаивает или вообще оказывается какой-то
неподвижной потусторонностью в наших условиях (как, например, компьютеры).
Между тем это закономерно и понятно, ибо мы берем только сами вещи, но не
то, что за ними стоит. Мы отнимаем их от духовного зерна, их родившего,
оказавшись сами вне его и его человеческих условий. Можно взять все
технические достижения - и ничего из этого не получится.
причины того или иного уровня культуры и творчества? - Так оно и есть, на
мой взгляд. Конечно, жизнь вольна и спонтанна, дух веет там, где хочет, и
цветок жизни пробьет даже асфальт. Был ведь Пушкин, и сейчас есть и будут
изобретатели, сыны и носители гармоний. Но это не может быть принципом
организации жизни. Не может быть школы "гения чистой красоты" и красоты
свободы. Школой может быть лишь открытая школа исторического существования.
А если в стране, уже как бы и привычно, вынужденно устанавливается
подпольная и контрабандная форма существования культуры (в том числе, и
экономической), то само по себе это тоже несомненный признак снижения и
упадка культуры, ее малой продуктивности. Ибо культура всегда публична, ее
всепространственность и повсевременность, по определению, всегда открыто
представлена на том, что греки называли "агорой" ("рыночной площадью"). В
нишах и подвалах не может ничего возникать, кроме вторичного (я говорю,
конечно, о принципе, а не об исключениях) или призрачного, только в
ненаступившем, но окончательном будущем полагаемого. Так - многозначительный
туман, воспарения... Все или прошлое, или будущее, - и ничего в настоящем.
Культура же, т.е. вечность в настоящем, в существующем, нуждается в открытом
пространстве и свободном слове. Это, очевидно, "врожденное" свойство
культуры: она не может органично и жизненно полноценно расти в подполье, в
глухой, не связанной словом (или, если угодно, "все-словом") жизни. Живые
токи коммуникации должны быть!
продуктивности отражается на самих возможностях нашего общественного
самосознания и даже просто осмысленности слов, терминов. Например, мы
говорим о молодежи и употребляем слова "поколение", "традиция", а ведь по
сути дела это незаконно. Чтобы эти термины имели смысл и работали в
общественном самосознании, недостаточно, чтобы физически существовали
молодые люди и их проблемы. Нужно, чтобы нити между ними (формальными
организациями и информацией как раз перерезанные) сходились в каком-то
связном пространстве, в котором люди могли бы открыто отображать себя и свои
проблемы и в котором они могли бы осознать себя как "поколение", способное
быть органом развития реальных проблем и состояний. А на деле между одной
мыслью и другой - тысячи километров расстояния (скажем, между юношей в Риге
и во Владивостоке), и каждая у себя атомизирована. И, в итоге, как бы
существуя, эта мысль не существует. То, что какой-то внешний наблюдатель их
может идентифицировать, не имеет никакого значения. А сами молодые сегодня
чаще всего встречаются не в том пространстве, о котором я говорил, а,
например, в дискотеках (особенно, в провинции), на своего рода коллективных
радениях, которые есть лишь перевернутый образ наших митингов 30-х годов, на
деле разобщавших людей в том, что действительно есть. Я никаких претензий
(тем более высоколобых) не имею ни к дискотекам, ни к тому, во что
одеваются, ни к тому, что поют, ни к тому, как общаются. Я говорю совершенно
о другом. Я говорю об органе развития, существование которого, с одной
стороны, делало бы осмысленными термины описания, а с другой - служило бы
артикуляции и движению того, что действительно есть. Иначе просто глухая
жизнь, как бы громко ни звучал рок.
- ученик, потому что неясно, чем может помочь и что вообще может сказать в
этих условиях, скажем, ученый, философ молодым коллегам, студентам,
слушателям. Или вообще ищущим. Конечно, сегодня так же, как и в прошлом,
нельзя специально вырастить кого бы то ни было. Самая лучшая передача знаний
случается тогда, когда учитель не занимается педагогикой, ничему сам
специально не учит, а является молчаливым примером. Но душевная смута именно
здесь и возникает. Я понимаю, почему, например, у Бахтина не было учеников.
И дело даже не в том, что он как ученый занимался такими предметами, которые
просто очень трудно передать, поделиться с другими. Дело в том, что каждый
из нас оказывается часто в ситуации, когда нужно что-то по своему опыту
посоветовать молодому человеку, - и вдруг такой совет невозможно дать. И вот
по какой причине: то, что можно мне, нельзя ему. И у меня нет,
следовательно, морального права на это. Думаю, Бахтин хорошо понимал эту
ситуацию. Он всю жизнь не уставал работать "в стол", он знал, что "есть для
избранных годы молчания..." Но что это? Молчаливый пример, что таланты
"подвальной" культуры все-таки пробиваются, что "рукописи не горят"? Да это
было бы чистейшим лицемерием! Бахтин реализовал идеал молчания,
изгнанничества и мастерства. Но призывать к этому же своих поклонников или
возможных учеников он не мог. Не только потому, что это не так просто - для
работы "в стол" нужны мужество и терпение, особая моральная закалка, но и
потому, что для этого нужна особая экстерриториальность собственного
положения - завоеванная и выстраданная. Молодым людям эти столы могут просто
взламывать. Я вспоминаю Августина, который только с ужасом мог подумать о
возможности снова оказаться молодым. И я, например, тоже не хочу, чтобы мне
сейчас было снова семнадцать лет... - А вы не боялись писать "в стол"? - Я
не пишу "в стол", жизнь моя сложилась иначе. И у меня не только полностью
отсутствует какое-либо сознание преследуемости, но и само сознание писания
"в стол". Я не знаю, как это объяснить. Если накапливаются рукописи, то мне
кажется, что я просто плохо пишу или бессилен выразить мысль до конца. Кроме
того, я всегда стремился выговаривать свои мысли в лекциях или докладах. И
если здесь что-то "не проходило", то, наверное, из-за отсутствия у меня
способности говорить просто и ясно. Но я имею в виду именно акт, поступок
мысли. Хотя это может быть никогда не опубликовано. Но это другой вопрос.
Дело же самовыполняется и самоисчерпывается в том акте, который ты
совершаешь. У Эйнштейна как-то спросили, как ему в голову приходят идеи. Он
рассмеялся и сказал, что, дай Бог, если за всю жизнь ему пришло в голову
хотя бы полторы идеи. Но если это случилось, если полторы идеи все-таки
выстраданы, человек как бы самовосполняется. - Ну, хорошо, а что делать
автору действительно талантливой книжки, если она по каким-то причинам не
идет в печать? "Пробивать" ее или же лучше не суетиться ("служенье муз не
терпит суеты") и ждать своего часа в надежде, что человечество образумится и
книга, если это и в самом деле серьезная работа, сама пробьет себе дорогу? -
Молодому человеку я, безусловно, не советовал бы пробивать свой труд, потому
что это было бы - пробивать заодно и себя. Для молодого человека такое
пробивание не может не выродиться в сутяжничество. А акт мысли, акт
написания книги мне кажется воплощением целомудрия. В человеке творящем
всегда есть какая-то особая сдержанность по отношению к вдруг удавшейся
мысли, образу, целому и т.д. Можно, конечно, как однажды Пушкин,
воскликнуть: "Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!" Это другое. Это почти что
физиологическое здоровое выражение творческого акта: разродился - и вот
ощущение блаженной пустоты. Но это не положение, при котором Пушкин мог бы,
например, просить аудиенции у государя императора и, положим, что-то "свое"
пробивать в печать. В XIX в. даже сама такая мысль не могла возникнуть. Ни у
кого - ни у Пушкина, ни у Лермонтова, разве что у Булгарина. А сейчас
подобное "хождение на верх" стало чуть ли не общепринятым правилом. Пушкина
же, например, схваченного в двойной пресс своего рода сговора между царем
наверху и массами во главе с Булгариным внизу, заботил гражданский вопрос:
неужели мы, аристократы, существуя, не можем иметь свой журнал?
точка зрения автора не подходит или просто не нужна людям из издательства,
бюрократически отстаивающим какие-то собственные корыстные интересы в
литературе? Если книжка им, так сказать, заочно не нужна и барьеры, которые
возникают на ее пути в печать, есть не что иное, как сведение старых
литературных счетов... - Здесь трудно ответить. Все это есть, конечно. И тут
нет никаких рецептов. Вы фактически говорите об одиноком и кому-то неудобном
таланте. А я вообще не верю в одиночество в том смысле, что быть солидарными
и сотрудничать могут только одинокие люди, люди, ставшие лицом к лицу с
бездной в себе... "Бездна с бездной перекликаются". У одинокого человека не
может не быть друзей. И практически, например, Ваша проблема решается тем,
что находятся неофициальные друзья, в разных местах (в том числе и
ответственных) и в разное время, способные помочь тебе. А друзей, как я уже
сказал, не может не быть. И "берутся за руки" ведь не только в песне. Но
правила, приема здесь нет.
уже никогда не узнаем. В том числе и потому, что их творческая жизнь
искусственно прервалась в самом ее зарождении. И мы знаем чудище Молоха
жестокости одних и трусости и предательства других. Кто не жил в те глухие
годы, когда "все молчало на всех языках" (и, добавлю я, больше трех никто не
собирался), кто не знает изнутри этот почти что совершенно физический страх,
взвешенный, как капельки, в атмосфере, проникающий во все закоулки души, во


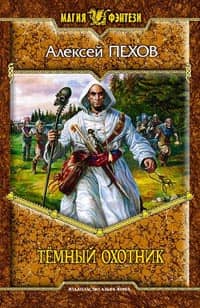


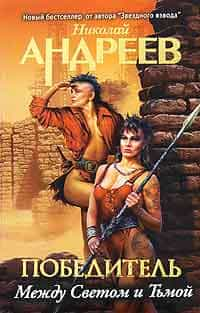
 Лукин Евгений
Лукин Евгений Никитин Юрий
Никитин Юрий Березин Федор
Березин Федор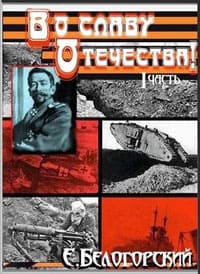 Белогорский Евгений
Белогорский Евгений Шилова Юлия
Шилова Юлия Пехов Алексей
Пехов Алексей