все", "метод - это все", "культура - это все", "наука - это все" и т. д.).
что "чистое сознание" - это ходячее понятие философской классики - является
элементом неоднородной спекуляции, то есть элементом изобретенного Кантом
способа и задания объектного способа анализа, хотя речь идет о
(трансцендентальной) "субъективности". У Канта "чистое сознание" не есть
чистое существующее сознание. Предположение чистого сознания (и его символ)
есть необходимый элемент понимания в той мере, в какой мы вообще что-то
другое можем понимать объективно. Ведь "Я" у Канта является не знаком
самотождественности субъекта, а символом нетождественности субъекта акта
познания вещному "Я", символом, из которого не следует никакого знания о
психологическом субъекте, носителе этого знания вещей.
же идеей отчуждения как с некоторой предзаданной априорной, до изучения
существующей установкой, и пришел к натурализации того, что у Канта не имело
натурального, буквального или вещественного смысла. У Гуссерля некоторый
слой вещественного сознания есть реальный, действительно существующий след
того Сознания, в котором депонирована всякая истина, всякая подлинная
сознательная жизнь. Техника редукции была для него своеобразной "йогой",
которая давала бы свободу проявиться этому чистому сознанию. Поэтому-то он и
ввел понятие "эгологии", то есть науки о "Я", которая у Канта была бы
совершенно невозможна. Когда "Я" выступает у Канта как элемент в аппарате
философского умозрения, то это умозрение направлено не на "Я", а на акт
знания мира в одном случае, или на сознание - в другом. (Напомним, что Будда
говорил, что среди известных ему структур и состояний сознания нет "Я"; у
раннего Гуссерля есть замечание в этом же роде, весьма похожее на парафраз
из буддийских текстов, правда, позднее он к этой идее не возвращался.)
такая содержательность сознания или такая структура сознания или факт
сознания, который сам бы предполагал субъективацию сознания во вневременном
(непроцессуальном) акте понимания? А если да, то включает ли сознание в себя
условия по реализации самого себя, то есть того, что в обыденной речи
называется самосознанием (или самопознанием). Включает ли оно в себя
понимание порядка реализации своего собственного содержания? От решения
этого вопроса зависит очень многое в применении к языку и знанию вообще как
к проблеме дихотомии ("язык - жизнь", "знак - обозначение" и т. д.). Почему?
Потому что, если эта проблема будет решена в отношении сознания и понимания
положительно, то, кто знает, - может быть, она положительно решится и в
отношении языка и знания? Мы можем тогда себе представить, что и язык (в
данном случае мы сейчас оставляем в стороне вопрос о его содержательном
отношении или не-отношении к сознанию) сам в себе содержит некоторый принцип
или технические возможности своей реализации или, говоря несколько
метафорически, "знает" языковую деятельность (феномен автоматизма языковой
деятельности говорит в пользу такого предположения).
стала открываться проблема связи между значением знаков или тем возможным
смыслом, который можно придать понятию с учетом возможных интерпретаций
знаков (проблема осмысленности научного понятия) - с одной стороны, и с
другой стороны, - имплицитными условиями, посылками и допущениями,
физическая (реальная или в принципе возможная) выполнимость которых только и
является основой того, что эти понятия вообще имеют смысл. Пытаясь
рассмотреть под этим углом отношение знания и знака, мы обнаружим одну
презабавную вещь: в принципе всякий метафизик считает, что вне конкретной
ситуации не существует научного знания. Ив самом деле, почти всякая
серьезная философия анализировала знание, имея в виду, что за знанием всегда
стоит сознание. То есть, имея в виду, что знание является знанием только
тогда, когда физически реализуются те условия и допущения, которые
принадлежат сознанию не как чему-то, находящемуся во внутреннем измерении
субъекта, а как тому, что лежит на стороне самих предметов. Регистрация
реализуемости или нереализуемости, в частности, физической, есть автономное
требование, есть акт понимания, требуемый для осмысленности вводимых
утверждений, представлений, понятий. И наоборот, можно считать, что
ситуация, которая онтологически содержит в себе допущения реализованное(tm)
сознания, - сама содержит в себе требование быть выполненной в том виде, как
она есть. Эта ситуация обращена к пониманию.
ресурсы самореализации, которые, вообще говоря, могут остаться
нереализованными, но осознание такого рода факта требует некоторого
первичного понимания заданности самого его существования. [Можно пойти еще
дальше и предположить, что любая "знаковая" ситуация может "запрашивать" и
понимание, имея в виду, что она сама содержит в себе какой-то механизм
самореализации и "требует" выполнения им работы. В применении к
символической знаковой системе можно себе представить такие группы ситуаций
(например, в смысле онтогенетического овладения ими ребенком): 1) ситуации,
требующие понимания, 2) ситуации, требующие просто знания, и 3) ситуации,
где возникает проблема различия между детским состоянием сознания и взрослым
состоянием сознания.]
которые являются одновременно описаниями условий производства сознания об
этих предметах. Иначе говоря, мы имеем дело с некоторым сращением (если так
можно выразиться) предмета и условия производства сознания об этом предмете.
думанья) к представлениям о таких вещах, которые могут существовать как вещи
лишь постольку, поскольку это обусловлено включением индивидуальных
психических механизмов в структуры (содержательности) сознания. Вне такой
включенности они существовать не могут. Такие "вещи" фигурируют в пределах
символики "бессознательного" или культурно-языковых систем, которые мы
условно можем назвать архаическими, как в плане филогенетики, так и в плане
развития детской психологии. И они выступают там как "архаические факты", то
есть факты, которые мы можем положительно узнать только в порядке знания,
потому что понимание здесь невозможно (поэтому мы называем их условным
термином "архаические"). Такие факты являются не системами отображения мира,
а системами, задающими правила отображенности содержательностей сознания в
психиках индивидов. Они зовут нас к несовершившемуся пониманию, а не к
понятийному знанию. Однако, не зная этого, мы пытаемся вновь их познать, а
не понять. А представление их в виде знания делает их просто нереальными.
"поле", где предметы сращены с сознанием или с условиями производства
сознания (где нами не познается дихотомия сознание - понимание). И сам факт
этой сращенности косвенным образом отображен символикой "бессознательного".
Объективность этой символики, ее динамика должны быть актуализированы как
условия, чтобы "сыграло" сознание и "совершилось" понимание. Дальнейшее
"послеархаическое" развитие можно было бы в чисто философском плане понять
как процесс, который, с одной стороны, есть освобождение сознания от знания
(или предметов), и с другой - освобождение вещей от их понимания. То есть, с
одной стороны, предметы освобождаются от их сращенности с условиями
производства сознания о них, а с другой - сознание освобождается от своего
сращения с условиями производства самого сознания, заданными в предметах. И
наконец, здесь сам знак фигурирует как элемент структуры сознания*, так,
чтобы знаковая организация одновременно содержала в себе такие (пустые,
"нулевые") клеточки или ячейки, которые бы "ожидали" заполнения себя в
процессе динамики индивидуального психического механизма.
мира по одноплоскостной схеме дихотомий (типа "выражение - содержание",
"природа - культура", "человек - окружающая среда", "наука - философия")
снова и снова воспроизводит типично научное заблуждение. Представление
человека о космосе с течением времени становится все менее и менее
антропоморфным. Однако элементарный анализ научных гиМы полагаем, что есть
такая структура сознания как "зна-ковость". потез (в физике, социологии,
лингвистике и т. д.) показывает, что, по сути дела, представление человека о
мире становится все более и более антропоморфным, потому что человек в его
же собственном самосознании, то есть в индивидуальной психической
содержательности сознания, в ее психологической проработке, все более и
более идет по линии отождествления особенностей психического с сущностью
космического по линии универсализации своей сущности как космической. Он
идет к идее сращения психики и сознания, к идее сращения человеческого со
"сверхчеловеческим", так сказать. В этом подходе идея психики "природно"
сращена с идеей психики человека, идея сознания - с идеей человеческого
сознания, идея Бога - с идеей Человекобога, идея языка - с идеей языка людей
(а "язык" животных изображается по существу как редуцированный язык людей,
так сказать, универсальная дефектная схема человеческой речи). Именно с этой
тенденцией связаны психологические и психолингвистические гипотезы о "языке
животных" (дельфинов, обезьян и т. д.) как об аналоге человеческой речи и т.
д.
сферы логического в сферу методологическую. Антропологизм науки является
осознанным фактом раскрытия индивидуализации человеческой сущности в смысле
утверждения ее в качестве космического фактора, космического элемента
научной методологии. Но поскольку, как об этом уже говорилось выше, проходят
два параллельных воедино связанных и противоположно направленных процесса
(освобождения предметов от сознания и освобождение сознания от предметов),
такие же два противоположно направленные и взаимосвязанные процесса имеют
место и в отношении проблемы антропоморфизации.
включенности человека в созерцаемый им спектакль мира. Поэтому, с одной
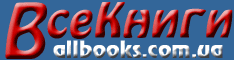


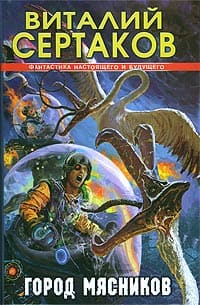
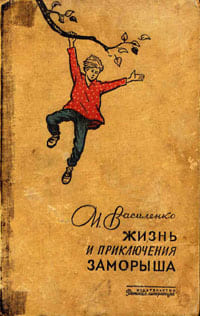
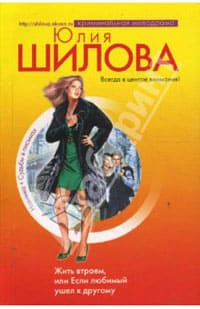
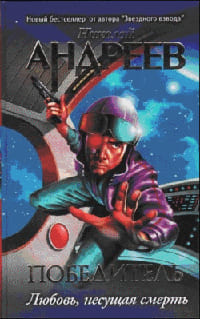 Андреев Николай
Андреев Николай Шилова Юлия
Шилова Юлия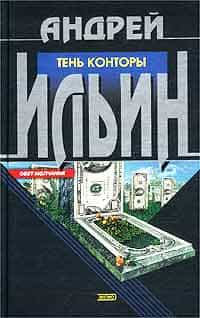 Ильин Андрей
Ильин Андрей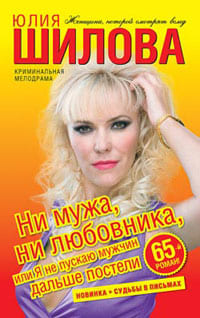 Шилова Юлия
Шилова Юлия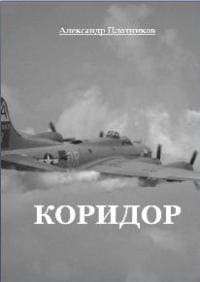 Плотников Александр
Плотников Александр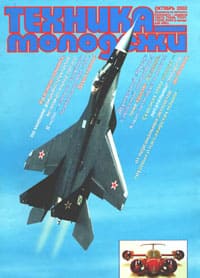 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман