В.В. Розанов
Легенда о Великом Инквизиторе
мог бы, судя по заглавию книги, ожидать один встретить в ней,
сопровождается двумя небольшими критическими этюдами о Гоголе. Они вызваны
были многочисленными возражениями, какие встретил в нашей литературе взгляд
на этого писателя, мною побочно выраженный в "Легенде об Инквизиторе". С
этими возражениями я согласиться не мог, и два небольших очерка, написанные
мною в объяснение своего взгляда, помогут и читателю стать в этом спорном
вопросе на ту или другую сторону. Главный же очерк, комментарий к
знаменитой "Легенде" Достоевского, сопровождается впервые здесь
приложениями, которые, как ключ, введут читателя в круг господствующих идей
нашего покойного писателя и дадут также возможность отнестись критически к
моим объяснениям его творчества. СПб., 1894
ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
напечатании "Легенды". Кажется, и до сих пор он остается в литературе
одиноким, непризнанным. Верен ли он? Ложен ли? Едва ли что можно возразить
мне, имея в руках документы написанного Гоголем. Гоголь был великий
платоник, бравший все в идее, в грани, в пределе (художественном); и,
разумеется, судить о России по изображениям его было бы так же странно, как
об Афинах времен Платона судить по отзывам Платона. Но в характеристике
своей я коснулся души Гоголя и, думаю, тут ошибся. Тут мы вообще все ничего
не знаем о Гоголе. Нет в литературе нашей более неисповедимого лица, и,
сколько бы в глубь этого колодца вы ни заглядывали, никогда вы не
проникнете его до дна; и даже по мере заглядывания все менее и менее будете
способны ориентироваться, потеряете начала и концы, входы и выходы,
заблудитесь, измучитесь и воротитесь, не дав себе даже и приблизительно
ясного отчета о виденном. Гоголь -- очень таинствен; клубок, от которого
никто не держал в руках входящей нити. Мы можем судить только по объему и
весу, что клубок этот необыкновенно содержателен... Поразительно, что
невозможно забыть ничего из сказанного Гоголем, даже мелочей, даже
ненужного. Такою мощью слова никто другой не обладал. В общем рисунок его в
равной мере реален и фантастичен. Он рассказывает полет бурсака на ведьме
("Вий") так, что невозможно не поверить в это как в метафизическую быль; в
"Страшной мести" говорит об испуге тоном смертельно боящегося человека. Да,
он знал загробные миры; и грех, и святое ему были известные не понаслышке.
В то же время в портретах своих, конечно, он не изображает
действительность, но схемы породы человеческой он изваял вековечно; грани,
к которым вечно приближается или от которых удаляется человек...
Достоевский как творец-художник стоит, конечно, неизмеримо ниже Гоголя. Но
муть Гоголя у него значительно проясняется, и из нее вытекли миры столь
великой сложности мысли, какая и приблизительно не мерцала автору
"Переписки с друзьями". Идейное содержание Достоевского огромно, хотя через
20 лет по его смерти, взяв карандаш, всегда можно отметить, где он не дошел
до нужного, переступил требующееся. И вообще виден конец и пределы
сказанного им, которых в год смерти его решительно невозможно было
определить. Можно сказать, что мы должны идти далее Достоевского, ибо время
и самый предмет удивления и восхищения как-то прошли... Видны ясно его
ошибки; и, напр., вся его путаница о Европе и России (в их взаимоотношении)
теперь представляется очевидною аберрацией ума. Вопросы, поставленные
Достоевским, гораздо глубже, чем казались ему. Они все суть более
метафизические вопросы, чем исторические, каковыми он склонен был сам
считать их. Россия подошла ныне к таким проблемам, взглянув на которые оба
наши писателя почувствовали бы нечто сходное с тем, что почувствовал добрый
Бурульбаш, заглянув в окно старого замка к Пану-Отцу ("Страшная месть").
Они зажмурились бы и спустились скорее вниз. Ясно, однако, чувствуется, что
центр всемирной интересности и значительности передвинулся к нам (Россия),
-- и почти весь вопрос теперь в силах нашего разумения, просто в нашей
талантливости. Талантливый момент придвинул к нам Бог; сумеем ли около него
мы сами быть талантливы... Одна частность, которую следует оговорить. Дойдя
до критики страдания людей, в частности -- младенцев, я пытался тогда, в
1891 г., рационализировать около этой темы. Это ошибка, и хотя я оставляю
эту страницу (66) нетронутою, но читатель должен на нее смотреть как бы на
зачеркнутую. В "Пушкинской речи", так запомнившейся в России, Достоевский
спросил: "Чем успокоить дух, если позади стоит нечестный, безжалостный,
бесчеловечный поступок?.. Позвольте, представьте, что вы сами возводите
здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им
наконец мир и покой. И вот, представьте себе тоже, что для этого необходимо
и неминуемо надо замучить всего только одно человеческое существо, мало
того -- пусть даже не столь достойное, смешное даже на иной взгляд
существо, не Шекспира какого-нибудь, а просто честного старика, мужа
молодой жены, в любовь которой он верит слепо, хотя сердца ее не знает
вовсе, уважает ее, гордится ею, счастлив ею и покоен. И вот только его надо
опозорить, обесчестить и замучить и на слезах этого обесчещенного старика
возвести это здание. Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на
этом условии? Вот вопрос. И можете ли вы допустить хоть на одну минуту, что
люди, для которых выстроили это здание, согласились бы принять от вас такое
счастье?"... Речь эта, и в частности приведенное место ее, чрезвычайно
запомнились. Действительно, тут поставлен некоторый кардинальный вопрос:
можно ли вообще на чьих-нибудь костях, и даже проще -- на чьей-нибудь
обиде, воздвигнуть, так сказать, нравственный Рим, вековечный,
несокрушимый? Или, еще острее поворот спора: если некоторый нравственный
Рим, с предположениями на вековечность, построен на чьих-нибудь костях, но
так искусно и с такими оговорками положенных, что не минуту, не год, но
века человечество проходило мимо этих костей, даже не замечая трупика,
отворачиваясь от него, презирая его, хотя о нем и сознавая все время: то
вправе ли мы долее считать и надеяться, что этот уже воздвигнувшийся Рим
вековечен, имеет вечное и согласное себе благословение в сердцах
человеческих и благоволение свыше?.. Вот вопрос, вот критерий. Лет шесть
назад мне пришлось выслушать рассказ приезжего с моей родины, смеющийся
почти рассказ, и просто в качестве новости, известия, именно повода к
рассказу за чашкою чая. Неподалеку от Костромы, в перелесках, которыми
начинаются необозримые заволжские леса, найдено было тельце
младенца-мальчика, около года, одинокое, но цельное и нетронутое. Привезли
его в Кострому, и как неизвестные тела нельзя предавать земле без вскрытия,
то его и вскрыли. Нашли в желудке и костях и тканях особенное перерождение,
которое происходит от голодной смерти. Дело было летом, и, очевидно,
мальчик все ползал около деревьев, может быть, заползал в кусты, может
быть, сваливался в ямку и из нее карабкался, и по крайней мере это длилось
неделю. В конце, вероятно, он потерял голос, но первые дни, верно, кричал:
"Мама! Мама!" Боялся он? Не боялся ночью? Как он относился к чувству
голода, т. е. что понимал об этом? Что такое боль голода, сильна ли? Ведь
это не местная и не острая боль? Ничего не умею представить себе о душе и
воображении, сознании мальчика, но кое-что, верно, было, уж по крайней мере
коротенькое-то это "мама! мама!". Но "мама", верно, была уже далеко, хотя,
может быть, день-то и постояла поблизости за деревом, тоже следя, куда
поползет мальчик и как он будет ее искать. К годовому ребенку любовь уже
совершенно сформировавшаяся, не одна инстинктивная, но и сознательная,
сердечная, острая, щемящая, -- и этим только и можно объяснить, что она не
имела сил убить его (верно, тайного своего ребенка), а оставила в лесу с
тупой надеждой, что кто-нибудь пройдет мимо, пожалеет и поднимет. Но,
верно, он отполз в сторону, и люди проходили дорогой, а в сторону не
заглянули. По всей обстановке видно, что до году мальчик скрывался
где-нибудь на стороне, а затем по каким-нибудь обстоятельствам матери
пришлось взять его, и вот она понесла было домой, но не донесла, ноги
задрожали, ум помутился: ведь за это и родной отец привычно выгоняет
дочерей вон из дому, что же скажут чужие, не отцы, соседи, священник? И
руки разжались, и младенец выпал на дорогу; но не нашлось для него "дочери
фараоновой", которая спасла Моисея из воды. Явный случай этот есть вариант
частого у нас случая гибели и погубления тайно рождаемых детей, в той же
мере обрекаемых на небытие, как египетский закон не требовал ведь
собственно и именно убиения израильских детей, а только чтобы еврейки не
рождали мальчиков детей. Девочек же они могли рождать так много, как и
христианки могут много рождать детей при сумме таких-то формальностей,
которые, увы, не в их распоряжении, и они оказываются во множестве, и не по
своей воле, так сказать, не получившими билета на вход в семейный сад. Все
христиане знают a priori, что, положим, в следующем 1903 году будет убито
младенцев приблизительно столько же сотен, сколько в этом 1902 году; но это
не возбуждает вопроса. Это так же мало для всякого интересно, как для
египтян мало было интересно число еврейских младенцев, которые, в силу
такого-то закона, попадут в Нил и иногда хуже, чем в Нил. На почве этой
коллизии Моисей и египтяне и разошлись. Теперь, если взять вопрос
Достоевского, в приведенной выше речи, и прикинуть его не к мужу Татьяны
("Евг. Онег."), как он сделал, т. е. факту литературному и предполагаемому,
но к костромскому мальчику, т. е. явлению очевидному и постоянному,
калейдоскопически вертящемуся, то мы и увидим, что, так сказать,
нравственный Рим, нами доверчиво принятый и в котором мы живем, так же
раскалывается, как еврейско-египетский союз-сожитие, ибо он построен именно
на крови детской, о которой в "Легенде" заговорил Достоевский; на страдании
без вины: и не стариков страдании, не взрослых, не людей какого-либо чина и





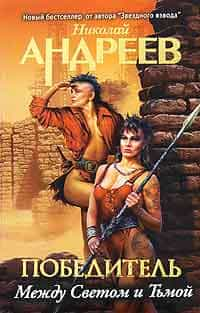
 Эриксон Стивен
Эриксон Стивен Ильин Андрей
Ильин Андрей Шилова Юлия
Шилова Юлия Майер Стефани
Майер Стефани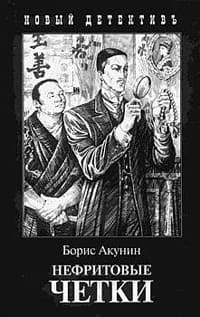 Акунин Борис
Акунин Борис