состояния, но именно и специально одних только детей. Мы живем в эре
похуленного рождения; потрясенного абсолюта полов, т. е. жизни, т. е. опять
же рождения, И костромской факт, в общей его картине и смысле, есть продукт
этого похудения, и вне нашей эры его не существует. Ибо где слава и честь
-- там не умирают, не умерщвляют; а где позор -- там уж непременно умрут.
Явилась и непременно должна была явиться у нас некоторая доля как бы
апокрифических рождений, не попадающих в тесный канон; и как апокрифические
книги не велено читать, предосудительно держать, одобрительно уничтожить:
так дети апокрифические не прямо, но косвенно указуются к вычерку из "книги
живота". Моисей и его судьба, но без дочери фараоновой, a priori
вырисовываются. И вырисовывается нужда, сердечная принужденность, подумать
о вторичном "Исходе", аналогичном Моисееву. Ибо, как и сказал Достоевский:
"Позвольте, согласились ли бы вы принять такую гармонию?" Но он совершенно
не подумал, как далеко простирается его вопрос и как самые дорогие ему идеи
закручиваются и идут ко дну именно около детей. Он взял в пример
необъяснимости вообще страданий абсолютную правду, чистоту: дитя. Ему в
ответ кидается: дитя-то и есть преимущественная скверна, первая вина
человеков, их стрежневой грех. Около этого вопроса "Легенда" Достоевского,
которая могла бы казаться только теориею, рассуждением и таковою
действительно была для него, наливается, так сказать, соком и кровью
практики и вдруг переходит в совершенно реальную проблему.
нового бытия. С.-Петерб., 1901
Оглавление
И ныне да не когда прострет руку свою, и возмет от древа жизни, и снест, и
жив будет во век". И изгна его Господь Бог из Рая сладости -- делати землю,
от неяже взят бысть. Быт. III В одной фантастической повести Гоголь
рассказывает, как старый ростовщик, умирая, призвал к себе художника и
неотступно просил его срисовать с себя портрет; когда работа уже началась,
художник вдруг почувствовал непреодолимое отвращение к тому, что делал, и к
этому отвращению примешался какой-то страх. Ростовщик, однако, все следил
за работой, какая-то тоска и беспокойство светились в его лице, -- но,
когда он увидел, что по крайней мере глаза окончены, в этом лице сверкнула
радость. Художник отошел на несколько шагов, чтобы посмотреть на свою
работу; но едва он взглянул на нее, как колена его задрожали: в глазах
начатого портрета светилась жизнь, настоящая жизнь, та самая, которая уже
потухала в его оригинале и каким-то тайным волшебством перенеслась в эту
копию. Палитра и кисть выпали из его рук, и он с ужасом выбежал из комнаты.
Через несколько часов ростовщик умер. Художник окончил жизнь в монастыре.
Этот рассказ, почему-то, невольно припомнился нам, когда мы задумали
говорить о знаменитой легенде Достоевского. Сквозь всю фантастичность в нем
как будто мелькает и какая-то правда, и, верно, она-то вывела его на свет
сознания из ряда других полузабытых рассказов я связала мысль о нем с
занимающим нас предметом. Не выразил ли в нем Гоголь некоторой тайны
художественной души, быть может, сознав ее в себе самом? Эта жизнь,
перешедшая в создание, это тоскливое желание не умереть прежде, чем
совершился такой переход, -- все это как будто напоминает нам что-то
главное в жизни самих художников, поэтов, композиторов. Только воплощаемое
и воплощающий здесь разделены, и этим замаскирована скрытая аллегория.
Соедините их, -- и вы получите изображение судьбы и личности всякого
великого творческого дарования. Там, "откуда не возвращался никто", есть,
конечно, жизнь: но нам ничего не рассказано о ней, и, по всему вероятию,
это жизнь какая-то совсем особенная, слишком абстрактная для наших живых
желаний, несколько холодная и призрачная. Вот почему человек так
прилепляется к земле, так боязливо не хочет отделиться от нее; и, так как
это ранее или позже все-таки неизбежно, он делает все усилия, чтобы
расставание с нею было не полное. Жажда бессмертия, земного бессмертия,
есть самое удивительное и совершенно несомненное чувство в человеке. Не
оттого ли мы так любим детей, трепещем за жизнь их более, нежели за свою,
уже увядающую; и когда имеем радость дожить и до их детей -- привязываемся
к ним еще сильнее, чем к собственным. Даже в минуту совершенного сомнения
относительно загробного существования мы находим здесь некоторое утешение:
"Пусть мы умрем, но останутся дети наши, а после них -- их дети"
["Подросток", Ф. М. Достоевского. Изд. 3. СПб., 1882, стр. 454.], --
говорим мы в своем сердце, прижимаясь к дорогой нам земле. Но это
бессмертие, эта жизнь нашей крови после того, как мы станем горстью праха,
слишком не полна: это какое-то разорванное существование, распределенное в
бесчисленных поколениях, и в нем не сохраняется главного, что мы в себе
любим, -- нашей индивидуальности, цельной личности. Несравненно полнее
существование, которое достигается в великих произведениях духа; в них
создающий увековечивает свою личность со всеми своими особыми чертами, со
всеми изгибами своего ума и тайнами своей совести. Порою он не хочет
раскрыть какой-нибудь стороны своей души, и, однако, жажда в нем
бессмертия, индивидуальной, особой от других жизни, так велика, что он
скрывает, запрятывает среди прочего и все-таки оставляет в своих
произведениях отражение этой стороны: проходят века -- и нужная черта
вскрывается и встает полный образ того, кто уже не страшится более
смутиться перед людьми. "Строй выше себе пирамиду, бедный человек", --
говорит как будто полный этих ощущений Гоголь ["Арабески", ч. 2. Жизнь.].
Во всяком случае, чувство радости, которое испытывается при этом созидании,
служит хоть каким-нибудь просветом среди того сумрака, который обычно
окружает душу великих поэтов, художников, композиторов. Так глубоко и так
часто непреодолимо разъединенные с живым, окружающим их миром людей, их
радостей и печалей, они чувствуют себя соединенными через века с иными
поколениями людей, мысленно живут в их жизни, помогают им в труде их и
радуются их радостям. Странная, несколько фантастическая жизнь, черты
которой, однако, мы наблюдаем, вчитываясь во все замечательные биографии.
Недаром покойный проф. Усов, натуралист, но и вместе знаток искусства,
назвал мир его -- "миром иллюзии" [Cм.: "Воспоминания о воззрениях С. А.
Усова на искусство" Н. Иванцова, в кн. III "Вопросы философии и
психологии". М., 1890.]. Замечательно, что у каждого почти творца в сфере
искусства мы находим один центр, изредка несколько, но всегда немного,
около которых группируются все его создания: эти последние представляют
собою как бы попытки высказать какую-то мучительную мысль, и, когда она
наконец высказывается, -- появляется создание, согретое высшею любовью
творца своего и облитое немеркнущим светом для других, сердце и мысли
которых влекутся к нему с неудержимою силой. Таков был у Гете "Фауст",
Девятая симфония у Бетховена, "Сикстинская Мадонна" у Рафаэля. Это высшие
продукты психической деятельности, их любит человечество и знает, как то, к
чему способно оно в лучшие свои минуты, которые, конечно, редки во
всемирной истории, как редки и минуты особенного просветления в жизни
каждого человека. На одном из подобных созданий мы и хотим остановиться.
Оно, однако, проникнуто особою мучительностью, как и все творчество
избранного нами писателя, как и самая его личность. Это -- "Легенда о
Великом Инквизиторе" покойного Достоевского. Как известно, она составляет
только эпизод в последнем произведении его, "Братья Карамазовы", но связь
ее с фабулою этого романа так слаба, что ее можно рассматривать как
отдельное произведение. Но зато, вместо внешней связи, между романом и
"Легендою" есть связь внутренняя: именно "Легенда" составляет как бы душу
всего произведения, которое только группируется около нее, как вариации
около своей темы; в ней схоронена заветная мысль писателя, без которой не
был бы написан не только этот роман, но и многие другие произведения его:
по крайней мере не было бы в них всех самых лучших и высоких мест. I Еще в
1870 г. в письме к Ап. Н. Майкову от 25 марта, Достоевский писал, между
прочим, о замысле большого романа, который он обдумывал в течение последних
двух лет и теперь хотел бы написать, пользуясь свободным временем. "Идея
[этого романа], -- говорил он в письме, -- та самая, о которой я вам уже
писал. Это будет мой последний роман. Объемом в "Войну и мир", и идею вы бы
похвалили, -- сколько я, по крайней мере, соображаюсь с нашими прежними
разговорами с вами. Этот роман будет состоять из пяти больших повестей
(листов 15 в каждой; в 2 года план у меня весь созрел). Повести совершенно
отделены одна от другой, так что их можно даже пускать в продажу отдельно.
Первую повесть я и назначаю Кашпиреву [Редактор журнала "Заря",
приглашавший Достоевского написать к осенним месяцам этого года
какую-нибудь повесть.]: тут действие еще в сороковых годах. Общее название
романа есть: "Житие великого грешника", но каждая повесть будет носить
название отдельно. Главный вопрос, который приведется во всех частях, --
тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, --
существование Божие. Герой в продолжение жизни -- то атеист, то верующий,
то фанатик и сектатор, то опять атеист. Вторая повесть будет происходить
вся в монастыре. На эту вторую повесть я возложил все мои надежды. Может
быть, скажут, наконец, что не все писал пустяки. Вам одному исповедуюсь,
Аполлон Николаевич: хочу выставить во 2-й повести главною фигурой Тихона
Задонского, конечно под другим именем, но тоже архиерей, будет проживать в
монастыре на покое. 13-летний мальчик, участвовавший в совершении
уголовного преступления, развитый и развращенный (я этот тип знаю), будущий
герой всего романа, посажен в монастырь родителями (круг наш,
образованный), и для обучения. Волчонок и нигилист-ребенок сходится с


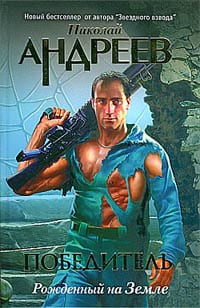



 Флинт Эрик
Флинт Эрик Ильин Андрей
Ильин Андрей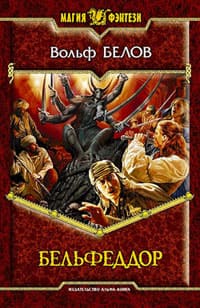 Белов Вольф
Белов Вольф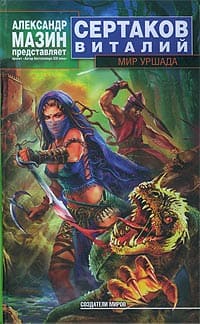 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий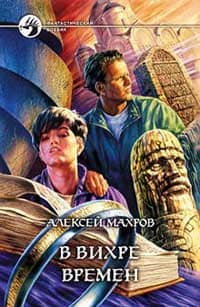 Махров Алексей
Махров Алексей Акунин Борис
Акунин Борис