прежние слова их о загробном существовании и о Боге оказались ни к чему не
относящимися. Продолжая аналогию с Иваном, мы должны думать, что именно
ужас ожидания "посещения" и приводил Смердякова в исступленное смятение, он
и привел его к самоубийству. Как и всегда человек, он скользнул по уклону
меньшего страдания. Перенести физическую боль удушения, очевидно, было для
него легче, нежели еще раз почувствовать ледяное прикосновение мучащего его
призрака. Припадки Смердякова, очевидно более тяжелые, нам не описаны, и
сделано только подробное описание припадка Ивана Федоровича. Есть известие,
что, когда печатались "Братья Карамазовы", один доктор-психиатр написал
Достоевскому письмо [Если письмо это сохранилось, было бы любопытно видеть
его напечатанным.], в котором удивляется глубокому соответствию его
художественного описания с тем, что открывается в припадках для
объективного наблюдения; последнее, конечно, не знает внутреннего
содержания галлюцинаций, которое именно дается у Достоевского. Этот
последний обставляет свое описание несколько насмешливым тоном, но,
вчитываясь в весь ряд его сочинений, мы видим, как постоянно он обставляет
в начале и конце легкою ирониею и свои любимые идеи [Такова, напр., в
"Братьях Карамазовых" речь прокурора на суде, которая вся ведется в тоне,
иронизирующем над прокурором; и, однако, многие из мыслей этой речи
содержат повторение мыслей, высказанных Достоевским от своего имени в
"Дневнике писателя".], -- по крайней мере делал это всякий раз, когда
ожидал, что они могут подвергнуться насмешке. Он не хотел, очевидно,
слишком восстановлять против себя читающую массу, -- но и оставить
невысказанным то или другое ему тоже было трудно. Иван Федорович во все
время галлюцинации не верит ее объективности, т. е. не верит, пока болен;
и, напротив, ее реальности он верит все время, как здоров, когда уже более
ее не испытывает; и даже ее только боится, об ней одной думает. Слишком уже
серьезны слова больного именно в здоровом-то его состоянии, и слишком
упорно сосредоточен делается автор, как только подходит к ним. Все это
заставляет нас видеть двойственное и скрытное в Достоевском, когда он
передает "кошмар Ивана Федоровича": едва ли он хотел нам дать только
описание галлюцинации, чуть ли под насмешливым тоном у него не скрыто
действительное убеждение; и весьма тонкое соображение Свидригайлова (см.
выше) о возможности "иных миров, клочки которых открываются человеку в
болезненном состоянии", едва ли не есть мысль самого Достоевского. По
крайней мере вот слова, которые он влагает старцу Зосиме, уже без всякой
иронии: "Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное
сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и
высоким, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. Вот
почему и сущности вещей нельзя постичь на земле. Бог взял семена из миров
иных и посеял на сей земле и взрастил сад Свой, и взошло все, что могло
взойти, но взращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего с
таинственным миром иным; если ослабевает или уничтожается в тебе сие
чувство, то умирает и взращенное в тебе. Тогда станешь к жизни равнодушен и
даже возненавидишь ее" ["Братья Карамазовы", глава "Из бесед и поучений
старца Зосимы". Сочинения, т. 13,стр. 357.]. Удивительны слова эти и по
глубине заключенной в них мысли, и по красоте образов, кажется очень близко
соответствующих скрытой действительности вещей, и по силе убежденности. Это
уже во второй раз [Разумеем известное стихотворение Лермонтова "По небу
полуночи ангел летел" и пр.] наша художественная литература, так неизмеримо
опередившая вялое движение наших наук, поднимается на высоту созерцаний, на
которой удерживался только Платон и немногие другие. В том, что ощущает
преступник, Достоевский, несомненно, видел прикосновение к "мирам иным",
вдруг становящееся отчетливым, ощутимым, тогда как для всех других людей,
не переступивших законов природы, оно есть, но не сознается, оно вполне
неощутимо и безотчетно. Что Достоевский был далек от какой-нибудь грубой
ошибки и что мы также не впадаем в нее, вскрывая его невысказанную мысль, в
этом нас убеждает решение, которое мы должны дать на два вопроса, невольно
возникающие при чтении как "Преступления и наказания", так и при описании
свиданий отцеубийц в "Братьях Карамазовых": отчего мы так понимаем верность
изображенного душевного состояния преступников, хотя сами не испытали его?
И отчего, совершив преступление и, следовательно, вдруг упав среди
окружающих людей на всю его высоту, преступник в каком-то одном отношении,
напротив, поднимается над ними всеми? Смердяков, дрожащее насекомое перед
Иваном до преступления, -- совершив его, говорит с ним, как власть имеющий,
как господствующий. Сам Иван изумляется этому и произносит: "Ты серьезен,
ты умнее, чем я думал". Раскольников, только primus inter pares между
другими людьми перед преступлением, положительно выходит из их уровня после
него; один Свидригайлов, тоже убийца, говорит с ним, как равносильный,
насмешливо указывая, что у них есть "какая-то общая точка соприкосновения".
Все это требует объяснения, и мы выскажем то, которое нам кажется
вероятным. Если для нас, никогда не совершавших убийства, душевное
состояние преступника понятно и, читая Достоевского, мы удивляемся не
прихотливости его фантазии, но искусству и глубине его анализа, то не
совершенно ли ясно, что у нас есть какое-то средство оценки, имея которое
мы произносим свой суд над правдоподобием в изображении того, что должно бы
быть для нас совершенно неизвестным. Не очевидно ли, что таким средством
может быть только уже предварительное знание этого самого состояния, хотя в
нем мы и не даем себе отчета; но вот другой изображает нам еще не
испытанные нами ощущения, -- ив ответ тому, что говорит он, в нас
пробуждается знание, дотоле скрытое. И только потому, что это
пробуждающееся знание сливается, совпадая, с тем, которое дается нам извне,
мы заключаем о правдоподобии, об истинности этого последнего. В случае
несовпадения мы сказали бы, что оно ложно, -- сказали бы о том, о чем,
по-видимому, у нас не может быть никакой мысли, никакого представления.
Этот странный факт вскрывает перед нами глубочайшую тайну нашей души -- ее
сложность: она состоит не из одного того, что в ней отчетливо наблюдается
(напр., наш ум состоит не из одних сведений, мыслей, представлений, которые
он сознает); в ней есть многое, чего мы и не подозреваем в себе, но оно
ощутимо начинает действовать только в некоторые моменты, очень
исключительные. И, большею частью, мы до самой смерти не знаем истинного
содержания своей души; не знаем и истинного образа того мира, среди
которого живем, так как он изменяется соответственно той мысли или тому
чувству, какие к нему мы прилагаем. С преступлением вскрывается один из
этих темных родников наших идей и ощущений, и тотчас вскрываются перед нами
духовные нити, связывающие мироздание и все живое в нем. Знание этого-то
именно, что еще закрыто для всех других людей, и возвышает в некотором
смысле преступника над этими последними. Законы жизни и смерти становятся
ощутимыми для него, как только, переступив через них, он неожиданно
чувствует, что в одном месте перервал одну из таких нитей и, перервав, --
как-то странно сам погиб. То, что губит его, что можно ощущать только
нарушая, -- и есть в своем роде "иной мир, с которым он соприкасается"; мы
же только предчувствуем его, угадываем каким-то темным знанием. Мы сказали,
что в "Братьях Карамазовых" великий аналитик человеческой души представил
нам возрождение новой жизни из умирающей старой. По необъяснимым,
таинственным законам, природа вся подлежит таким возрождениям; и главное,
что мы находим в них, -- это неотделимость жизни от смерти, невозможность
осуществиться для первой вполне, если не осуществилась вторая. Здесь и
находит свое объяснение эпиграф, взятый Достоевским для своего последнего
произведения: "Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши на
землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода"
(Ев. от Иоанна, XII, 24). Падение, смерть, разложение -- это только залог
новой и лучшей жизни. Так должны мы смотреть на историю; к этому взгляду
должны приучаться, смотря и на элементы разложения в окружающей нас жизни:
он один может спасти нас от отчаяния и исполнить самой крепкой веры в
минуты, когда уже настает, кажется, конец для всякой веры. Он один
соответствует действительным и мощным силам, направляющим поток времен, а
не слабо мерцающий свет нашего ума, не наши страхи и заботы, которыми мы
наполняем историю, но нисколько не руководим ею. Но широко задуманная
Достоевским картина осталась недорисованною. С пониманием мрака, хаоса,
разрушения, без сомнения, связано было в душе самого художника некоторое
отсутствие гармонии, стройности, последовательности. Собственно, в "Братьях
Карамазовых" изображено только, как умирает старое; а то, что возрождается,
хотя и очерчено, но сжато и извне; и как именно происходит самое
возрождение -- это тайна унесена Достоевским в могилу. Судя по
заключительной странице "Преступления и наказания", он всю жизнь готовился
к этому изображению, и оно должно было наконец появиться в последующих
томах "Братьев Карамазовых"; но, за смертью автора, этому не суждено было
сбыться. Важнейшую задачу своей жизни он только наметил, но не выполнил. Но
то, что стояло в преддверии к ней, выполнено им с широтою замысла и с
глубиною понимания, которые не имеют себе ничего подобного как в нашей
литературе, так и в других. Мы разумеем "Легенду о Великом Инквизиторе".
Уже выше замечено было, что, умирая, всякая жизнь, представляющая собою
соединение добра и зла, выделяет в себе, в чистом виде, как добро, так и
зло. Именно последнее, которому, конечно, предстоит погибнуть, но не ранее
как после упорной борьбы с добром, -- выражено с беспримерной силою в
"Легенде".
мечтательный и религиозный юноша, любимый послушник старца Зосимы, так
спокойно свернувший с обычной жизненной колеи на путь монастырского
уединения, и старший его годами и опытностью Иван. Из всех четырех братьев
только они были единоутробные, Димитрий же и Смердяков были им братьями
лишь по отцу. Уже четыре месяца прошло, как они встретились, впервые после
долгой разлуки, -- и вот только теперь, накануне новой разлуки, быть может
навсегда, они сходятся и говорят с глазу на глаз. В течение этих месяцев


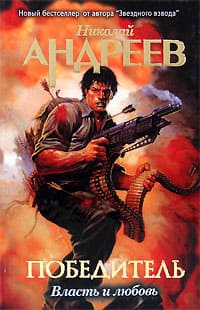
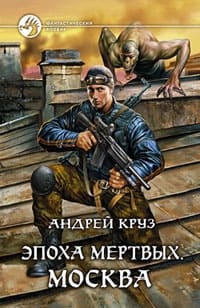


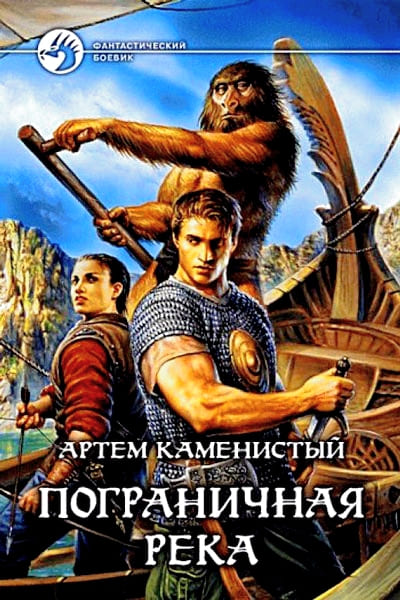 Каменистый Артем
Каменистый Артем Конюшевский Владислав
Конюшевский Владислав Бажанов Олег
Бажанов Олег Акунин Борис
Акунин Борис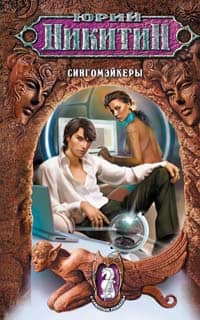 Никитин Юрий
Никитин Юрий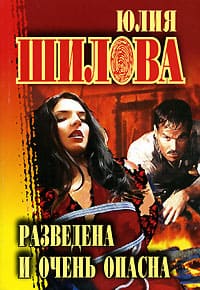 Шилова Юлия
Шилова Юлия