черт его. Мы думаем, этот принцип есть истинный, и при соблюдении Его
Евангелие никогда бы не могло быть подвергнуто тем насильственным
применениям, каким, посредством уловления из него отдельных выражений, оно
подвергалось в истории. Так, на выражении "compelle intrare" -- "понудь их
(позванных) войти" (на брачный пир жениха, в "Притче о званых и незваных")
основывала свое право на существование католическая инквизиция; или на
выражении: "Мое царство не от мира сего" и до сих пор многие основывают
требование безучастного отношения Церкви к греху, к преступлению "мира"
(целого общественно-исторического строя).], -- но неужели Ты не подумал,
что он отвергнет же наконец и оспорит даже и Твой образ и Твою правду, если
его угнетут таким страшным бременем, как свобода выбора? Они воскликнут,
наконец, что правда не в Тебе, -- ибо невозможно было оставить их в
смятении и мучении более, чем сделал Ты, оставив им столько забот и
неразрешимых задач. Таким образом, сам Ты и положил основание к разрушению
Своего же Царства, и не вини в этом никого более". Другими словами, учение,
пришедшее спасти мир, -- своею высотою и погубило его, внесло в историю не
примирение и единство, но хаос и вражду. История не закончена; и, между
тем, она должна закончиться, именно этого ищут народы в своей жажде найти
предмет общего и согласного поклонения. Они и истребляют друг друга для
того, чтобы, хотя путем гибели многих непримиренных, наконец соединились
оставшиеся. Христианство не ответило этой потребности человеческого сердца,
предоставив все индивидуальному решению, ложно понадеявшись на человеческую
способность к различению добра и зла. Даже древний, не столь высокий, но
точный и суровый закон более удовлетворял этой потребности: побиение
камнями извергало всякого, кто отступал от него, и люди оставались в
единстве, хотя насильственном. Еще лучше ответило бы этой потребности,
правда, уже совсем грубое средство -- "земные хлебы", закрытие от глаз
человека всего небесного. Напитав его, оно усыпило бы тревоги его совести.
Мы не отойдем, кажется, далеко от истины, если скажем, что с искушением
прибегнуть, овладевая судьбами человечества, к "земным хлебам" здесь
разумеется один страшный, но действительно мощный исход из исторических
противоречий: это -- понижение психического уровня в человеке. Погасить в
нем все неопределенное, тревожное, мучительное, упростить [В "Бесах" одно
из лиц, только почти называемое (Шигалев), высказывает идею этого упрощения
человеческой природы, понижения в ней психического уровня. Ее можно считать
ранним и более подробно мотивированным изложением данного места "Легенды".
См. Приложения.] его природу до ясности коротких желаний, понудить его в
меру знать, в меру чувствовать, в меру желать -- вот средство удовлетворить
его, наконец, и успокоить...
человечество Христианство и его учение о свободе, к изображению будущего и
окончательного успокоения его на земле. Инквизитор обращается к разбору
двух остальных искушений дьявола. Вот слова, в которых они записаны у
евангелистов Матфея и Луки: "Тогда берет Его диавол во Святой Град и
поставляет Его на крыле храма и говорит Ему: "Если Ты Сын Божий -- бросься
вниз; ибо о Том написано: Ангелом своим заповедает о Тебе сохранить Тебя, и
на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею". Иисус же
сказал ему: "Написано также -- не искушай Господа Бога Твоего". "И вновь
берет Его Диавол и, возведя на высокую гору, показывает все царства
Вселенной во мгновении времени; и говорит Ему: "Все это дам Тебе, если,
падши, поклонишься мне". Тогда Иисус говорит ему: "Отойди от меня, Сатана!
Ибо написано -- Господу Богу твоему поклоняйся и Ему Единому служи". "Тогда
оставляет Его Диавол, и се Ангелы приступили и служили ему" (Матф., гл. IV,
ст. 5 -- 11, Луки, IV, 5). Инквизитор, сказав об элементах саморазрушения,
которыми наполнено Христианство, продолжает, обращаясь к Христу: "Между
тем, то ли предлагалось Тебе? Есть три силы, единственные три силы на
земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных
бунтовщиков для их счастья. Эти силы: чудо, тайна и авторитет. Ты отверг и
то, и другое, и третье, и Сам подал пример тому. Когда страшный и премудрый
Дух поставил Тебя на вершине Храма и сказал Тебе: "Если хочешь узнать. Сын
ли Ты Божий, то верзись вниз, ибо сказано про Того, что ангелы возьмут и
понесут Его, и не упадет, и не преткнется, и узнаешь тогда, Сын ли Ты
Божий, и докажешь тогда, какова вера Твоя в Отца Твоего", -- то Ты,
выслушав, отверг предложение, и не поддался, и не бросился вниз. О,
конечно, Ты поступил тут гордо и великолепно, как Бог, но люди-то, но
слабое бунтующее племя это -- оно-то боги ли? О, Ты понял тогда, что,
сделав лишь шаг, движение броситься вниз, Ты тотчас бы и искусил Господа, и
веру в Него всю потерял, и разбился бы о землю, которую спасать пришел, и
возрадовался бы умный Дух, искушавший Тебя". Удивительно неверие в
мистический акт искупления, выраженное в первых отмеченных нами словах,
соединенное с совершенною верою в искушение Иисуса и даже в мистическое
значение этого искушения, в попытку Дьявола помешать пришествию Его как
Спасителя в мир, которая выражена в последних отмеченных словах. "Но,
повторяю, -- продолжает Инквизитор, -- много ли таких, как Ты? И неужели Ты
в самом деле мог допустить хоть минуту, что и людям будет под силу подобное
искушение? Так ли создана природа человеческая, чтобы отвергнуть чудо -- ив
такие страшные моменты жизни, моменты самых страшных, основных и
мучительных душевных вопросов [Говорится об отношении человека к
мистическому акту Искупления, верою в который он жив будет, -- и нужно бы
эту веру, эту жизнь подкрепить чем-нибудь более, нежели как только
подкрепляет ее высота Христова лика.] своих оставаться лишь с свободным
решением сердца? О, Ты знал, что подвиг Твой сохранится в книгах, достигнет
глубины времен [Опять, какая удивительная вера звучит в этих словах!] и
последних пределов земли, и понадеялся, что, следуя Тебе, и человек
останется с Богом, не нуждаясь в чуде. Но Ты не знал, что чуть лишь человек
отвергнет чудо, то тотчас отвергает и Бога [Говорится, и с справедливым
презрением, о том, как в истории -- и до нашего времени -- борьба против
религии почти отождествлялась с борьбою против чудесного, равно и обратно;
и как, едва распутав что-нибудь, прежде казавшееся в природе
сверхъестественным, человек трусливо перебегал от веры к неверию.], ибо
человек ищет не столько Бога, сколько чудес. И так как человек оставаться
без чуда не в силах, то насоздаст себе новых чудес, уже собственных
[Говорится о позднейших открытиях науки и, еще более, о технических
изобретениях, которым так дивится человек в наше время, так снова и снова
любит повторять себе о них, едва веря, что они есть и что их нашел он сам
-- человек.], и поклонится уже знахарскому чуду, бабьему колдовству
[Говорится о той особенной заинтересованности, с которою во времена
безбожия люди прислушиваются ко всему странному, исключительному, в чем бы
нарушился закон природы. Можно сказать, что в подобные времена ничто не
ищется людьми с такою жадностью, как именно чудесное, -- но лишь с
непременным условием, чтобы оно не было также и божественным. Увлечения
спиритизмом, о которых с насмешкою упоминается в "Дневнике писателя", без
сомнения, напомнили Достоевскому общность и постоянность этой психической
черты в человеке (срав. суеверное состояние римского общества, когда оно
впало в совершенный атеизм во II -- III веках).], хотя бы он сто раз был
бунтовщиком, еретиком и безбожником. Ты не сошел со креста, когда кричали
Тебе, издеваясь и дразня Тебя: сойди со креста -- и уверуем, что это Ты. Ты
не сошел: потому что, опять-таки, не захотел поработить человека чудом и
жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаждал свободной любви, а не рабских
восторгов невольника пред могуществом, раз навсегда его ужаснувшим
[Говорится о неизъяснимой высоте Христианства, с его простотою и
человечностью, над всеми другими религиями земли, в которых элемент
чудесного так преобладает над всем остальным, которые исторически возникли
из страха перед этим чудесным.]. Но и тут Ты судил о людях слишком высоко,
ибо -- конечно, они невольники, хотя созданы бунтовщиками. Озрись и суди;
вот прошло пятнадцать веков, поди посмотри на них: кого Ты вознес до Себя?
Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем Ты о нем думал!. [Основная мысль
"Легенды". Ниже мы также отметим несколько фраз, в которых как бы
сконцентрирован ее смысл или, точнее, указаны ее исходные пункты.] Столь
уважая его, Ты поступил как бы перестав ему сострадать, потому что слишком
много от него потребовал, и это кто же? Тот, Который возлюбил его более
Самого Себя! Уважая его менее, менее бы от него и потребовал, а это было бы
ближе к любви, ибо легче была бы ноша его". Из чрезмерной высоты заветов
Спасителя вытекло непонимание их человеком, сердце которого извращено и ум
потемнен. Над их великою непорочностью, чудною простотою и святостью, он
наглумится, надругается, -- и это одновременно с тем, как преклонится перед
вульгарным и грубым, но поражающим его пугливое воображение. Мощными
словами Инквизитор рисует картину восстания против религии, только малый
уголок которого видела еще всемирная история, и проницающим взглядом
усматривает то, что за этим последует: "Человек слаб и подл. Что в том, что
он теперь [Говорится не о реформационном движении, современном диалогу
"Легенды", потому что дух глубокой веры, проникавший это движение, был
слишком высок для презрительного отзыва о нем (см. несколько слов об этом
духе у Достоевского в "Речи о Пушкине", по поводу стихов: "Однажды
странствуя среди пустыни дикой" и проч.). Без сомнения, слова "Легенды"
вызваны антирелигиозным движением отчасти XVIII, но главным образом нашего
XIX века, в котором на борьбу с религией также мало тратится усилий и
серьезности, как и на борьбу с какими-нибудь предрассудками.] повсеместно
бунтует против нашей власти и гордится, что он бунтует! Это гордость
ребенка и школьника. Это маленькие дети, взбунтовавшиеся в классе и
выгнавшие учителя. Но придет конец и восторгу [И приходит, напр., в наше
время по отношению к недавнему антирелигиозному движению, и во всякое
другое, более серьезное время по отношению ко всякому же предшествующему
восстанию против религии. Так, сама реформация как индивидуальное искание
Церкви возникла после кощунственно относившегося к религии гуманизма; а за


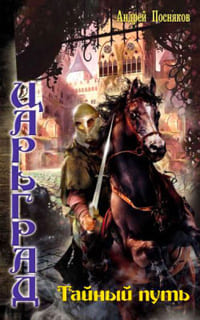



 Орлов Алекс
Орлов Алекс Березин Федор
Березин Федор Суворов Виктор
Суворов Виктор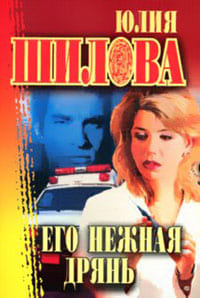 Шилова Юлия
Шилова Юлия Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Пехов Алексей
Пехов Алексей