эпохою французской революции настали времена Шатобриана, Жозефа де Местра и
других с их вычурными идеями и смятением чувства. Истинное отношение к этим
и аналогичным движениям верно указано Достоевским: это не вера настоящая,
простая и сильная, но испуг и смятение вчерашних кощунствовавших
школьников; это не Бог, в человеке действующий, а человек, подражающий
наружно движениям и словам тех, в ком Он истинно действовал, кого истинно
призвал к Себе когда-то (праведники).] ребятишек -- он будет дорого стоить
им. Они ниспровергнут храмы и зальют кровью землю [Говорится не о временах
первой французской революции, как можно бы подумать, но о том, что
непременно совершится в будущем, -- о попытке насильственно подавить в
целом человечестве религиозное сознание. Слова эти соответствуют некоторым
уже приведенным выше местам "Легенды".]. Но догадаются, наконец, глупые
дети, что хотя они бунтовщики, но бунтовщики слабосильные, собственного
бунта своего не выдерживающие [Достоевский, всегда стоя выше своих героев
(на которых никогда не любуется, но, скорее, выводит их для выражения своей
мысли), любит наблюдать, как, несмотря на великие свои силы, они ослабевают
под давлением душевных мук, как они не выдерживают своей собственной
"широты" и преступности, хотя прежде возводили это в теорию (последний
разговор Н. Ставрогина с Лизою в "Бесах", последнее свидание Ив. Карамазова
со Смердяковым). Почти повсюду изображение очень сильного человека, если он
не оканчивает раскаянием (как Раскольников), у Достоевского завершается
описанием как бы расслабления его сил, унижением и издевательством над
"прежним сильным человеком".]. Обливаясь глупыми слезами своими, они
сознаются, наконец, что создавший их бунтовщиками, без сомнения, хотел
посмеяться над ними. Скажут это они в отчаянии, и сказанное ими будет
богохульством, от которого они станут еще несчастнее, -- ибо природа
человеческая не выносит богохульства и, в конце концов, сама же всегда и
отметит за него". Затем, подводя общий итог совершившемуся в истории,
Инквизитор переходит к раскрытию своей тайны, которая состоит в поправлении
Акта Искупления через принятие всех трех советов "могучего и умного Духа
пустыни", -- что, в свою очередь, совершилось ради любви к человечеству,
для устроения земных судеб его. Оправдание им этого преступного исправления
возводится к тому образу немногих искупляемых, который мы привели выше из
XIV гл. Апокалипсиса; припоминая его, он говорит: "Итак, неспокойство,
смятение и несчастие -- вот теперешний удел людей после того, как Ты столь
претерпел за свободу их! Великий пророк Твой в видении и в иносказании
говорит, что видел всех участников первого воскресения и что было их из
каждого колена по двенадцати тысяч [В гл. VII Апокалипсиса делается
предварительное исчисление спасаемых, по 12 тысяч в каждом из колен
Израилевых, которые в XIV гл. и называются все в общей цифре 144 тысячи.].
Но если было их столько, то были и они как бы не люди, а боги. Они
вытерпели крест Твой, они вытерпели десятки лет голодной и нагой пустыни,
питаясь акридами и кореньями, -- и, уж, конечно. Ты можешь с гордостью
указать на этих детей свободы, свободной любви, свободной и великолепной
жертвы их во имя Твое [Какое удивительное, глубокое и верное понимание
истинного смысла духовной свободы; свободы от себя, от низкого в природе
своей, во имя высшего и святого, что почувствовал и признал своею лучшею
стороною вне себя. На эту свободу указывается Здесь в противоположность
грубому ее пониманию: как независимости низкого в себе от руководства ли,
или подчинения какому-нибудь высшему, вне лежащему началу.]. Но вспомни,
что их было всего только несколько тысяч, да и то богов, а остальные? И чем
виноваты остальные слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучие?
Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров?
[Вторая центральная мысль "Легенды".] Да неужто же и впрямь приходил Ты
лишь к избранным и для избранных? Но если так, то тут -- тайна, и не понять
ее".
высоких формах, оставила вне себя безвинно слабых, и начинается вступление
диалектики Инквизитора в новый, высший круг: отвержение самого Искупления;
как выше, в исповеди Ив. Карамазова, на непостижимости тайны безвинного
страдания основывалось отвержение им будущей жизни. Последнего Суда.
Отрицания бытия этих актов -- нет; есть, напротив, яркость их ощущения,
доходящая до ослепительности; есть против них восстание, есть отпадение от
Бога, второе на исходе судеб, после завершившейся истории, но во всем
подобное тому первому отпадению, какое совершилось и перед началом этих
судеб, -- однако с сознанием, углубленным на всю их тяготу. "Если же --
тайна, -- говорит Инквизитор, -- то и мы вправе были проповедовать тайну и
учить их, что не свободное решение сердец их важно [Это положение, как
известно, составляет действительно особенность католического учения, и она
именно повела ко всему формализму в Западной Церкви и к нравственному
растлению народов, ею пасомых. Из него вытекло так называемое учение о
"добрых делах", которые, как бы ни совершались, хотя бы совершенно
механически, -- для души одинаково спасительны (отсюда -- индульгенция, т.
е. отпущение грехов первоначально шедшим, в Крестовых походах, положить
жизнь за веру и Церковь, потом каким-нибудь образом способствующим этому и,
наконец, вообще делающим денежные пожертвования на нужды Церкви: откуда уже
только один шаг до продажи за различную цену спасающих от греха писаных
бланок). На этом именно средстве оправдания и разошелся протестантизм со
старою Церковью, противу поставив ее формальному способу спасать души людей
через мертвенное дело -- оправдание верою, т. е. актом живого внутреннего
движения.] и не любовь, а -- тайна, которой они повиноваться должны слепо,
даже мимо их совести. Так мы и сделали. Мы исправили подвиг Твой и основали
его на чуде, тайне и авторитете. И люди обрадовались, что их вновь повели,
как стадо, и что с сердец их снят наконец столь страшный дар, принесший им
столько муки [Т. е. свобода и свободное различение добра и зла.]. Правы мы
были, уча и делая так, скажи? Неужели мы не любили человечества, столь
смиренно сознав его бессилие, с любовью облегчив его ношу и разрешив
слабосильной природе его хотя бы и грех, но с нашего позволения? К чему же
теперь Ты пришел нам мешать? И что Ты молча и проникновенно глядишь на меня
кроткими глазами своими? Рассердись, я не хочу любви Твоей, потому что сам
не люблю Тебя. И что мне скрывать от Тебя? Или я не знаю, с Кем говорю? То,
что имею сказать Тебе, все Тебе уже известно, я читаю это в глазах Твоих. И
я ли скрою от Тебя тайну нашу? Может быть. Ты именно хочешь услышать ее из
уст моих, слушай же: мы не с Тобой, а с Ним, вот наша тайна!.. Мы взяли от
Него то, что Ты с негодованием отверг: тот последний дар, который он
предлагал Тебе, показав Тебе все царства земные: мы взяли от него Рим и меч
Кесаря". С этих только слов начинается раскрытие частной католической идеи
в истории. Все, что было сказано раньше, имеет совершенно общее значение,
т. е. представляет собою диалектику Христианства в его основной идее,
одинаковой для всех верующих, в связи с раскрытием природы человеческой,
осуждением ее и к ней состраданием. Но, развиваясь далее и далее и,
наконец, заканчиваясь мыслью о религиозном устроении человеческих судеб на
земле, окончательном и всеобщем, эта диалектика, до сих пор совершенно
абстрактная, -- совпала с историческим фактом, ей отвечающим, и невольно
вовлекла его в себя, цепляясь оборотами мысли с выдающимися чертами
действительности. Этот факт -- Римско-католическая церковь с ее
универсальными стремлениями, с ее внешнею объединяющею мощью; христианское
семя, выросшее на почве древнего язычества. Инквизитор, оговариваясь, что
дело их еще "не приведено к окончанию", что оно "только началось",
высказывает, тем не менее, твердую уверенность, что оно завершится: "Долго
еще ждать этого, -- говорит он, -- и еще много выстрадает земля, но мы
достигнем и будем кесарями, и тогда уже помыслим о всемирном счастии людей
[Мысль исключительно Достоевского и вовсе не принадлежащая Риму, который
если и стремился в древнее и новое время к всемирному господству, то вовсе
не для "счастья людей". Из этого примера лучше всего можно видеть, как
вплетает Достоевский в исторический факт, как его душу, свою особенную и
личную мысль.]. А, между тем, Ты мог бы еще и тогда взять меч Кесаря. Зачем
Ты отверг этот последний дар? Приняв этот третий совет могучего Духа, Ты
восполнил бы все, чего ищет человек на земле, то есть: пред кем
преклониться, кому вручить совесть и каким образом соединиться, наконец,
всем в бесспорный общий и согласный муравейник [Это уже язык и мысли,
специально выработавшиеся у Достоевского и звучащие несколько странно в
устах Инквизитора, в XVI веке. "Муравейник", "Хрустальный дворец" и
"Курятник" -- это три образные выражения идеи всемирного соединения людей и
их успокоения, которые впервые обсуждаются у Достоевского в "Записках из
подполья". "Курятник" -- это бедная и неудобная действительность, которая,
однако, предпочтительнее всего другого, потому что она хрупка, всегда может
быть разрушена и изменена, и, следовательно, не отвечая второстепенным
требованиям человеческой природы, отвечает главной и самой существенной ее
особенности -- свободной воле, прихотливому желанию, которое не погашается
в индивидууме. "Хрустальный дворец" -- это искусственное, возведенное на
началах разума и искусства, здание человеческой жизни, которое хуже всякой
действительности, потому что, удовлетворяя всем человеческим нуждам и
потребностям, не отвечает одной и главной -- потребности индивидуального,
особенного желания; оно подавляет личность. В "Записках из подполья"
отвергается вторая формула и оставляется первая, за отсутствием для
человека третьей "Муравейника": под этим названием разумеется всеобщее и
согласное соединение живых существ какого-либо вида, основанное на
присутствии в них одного общего и безошибочного инстинкта построения общего
жилища. Таким инстинктом наделены все живущие обществами животные
(муравьи), но его лишен человек; поэтому в то время, как они строят всегда
одинаково, повсюду одно и постоянно мирно, человек строит повсюду
различное, вечно трансформируется в своих желаниях и понятиях; и едва
приступит к построению всеобщего -- разойдется в представителях своих,
единичных личностях, и притом со смертельною враждою и ненавистью. Эти три


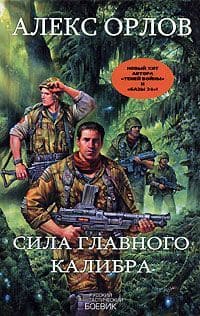
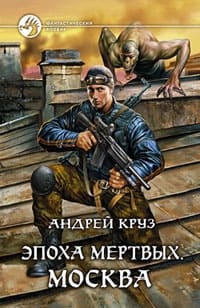
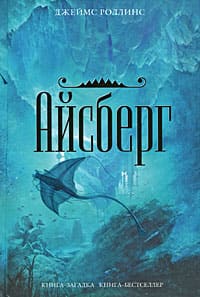
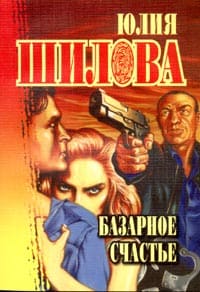
 Куликов Роман
Куликов Роман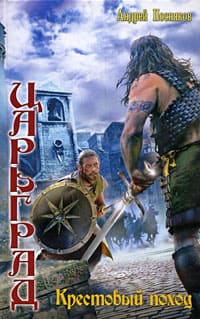 Посняков Андрей
Посняков Андрей Шилова Юлия
Шилова Юлия Лукьяненко Сергей
Лукьяненко Сергей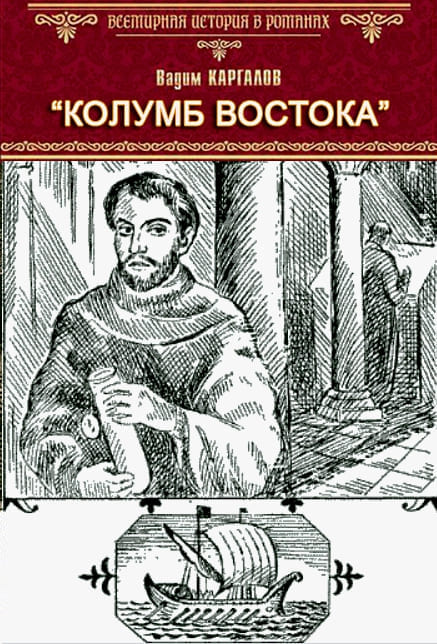 Каргалов Вадим
Каргалов Вадим Емилина Ника
Емилина Ника