бы, по-вашему, ну да и, конечно, по-моему, -- обскурант или совсем
сумасшедший, так ли? Но ведь вот что удивительно: отчего это так
происходит, что все эти статистики, мудрецы и любители рода человеческого,
при исчислении человеческих выгод постоянно одну выгоду пропускают? Даже и
в расчет ее не берут в том виде, в каком ее следует брать, а от этого и
весь расчет зависит. Беда бы не велика, взять бы ее, эту выгоду, да и
занесть в список. Но в том-то и пагуба, что эта мудреная выгода ни в какую
классификацию не попадет и ни в один список не умещается. У меня, например,
есть приятель... Эх, господа, да ведь и вам он приятель; да и кому, кому он
не приятель! Приготовляясь к делу, этот господин тотчас же изложит вам,
велеречиво и ясно, как именно надо ему поступить по законам рассудка и
истины. Мало того, с волнением и страстью будет говорить вам о настоящих,
нормальных человеческих интересах; с насмешкой укорит близоруких глупцов,
не понимающих ни своих выгод, ни настоящего значения добродетели, и --
ровно через четверть часа, без всякого внезапного, постороннего повода, а
именно по чему-то такому внутреннему, что сильнее всех его интересов, --
выкинет совершенно другое колено, то есть явно пойдет против того, об чем
сам и говорил: и против законов рассудка, и против собственной выгоды, ну,
одним словом, против всего... Предупрежду, что мой приятель -- лицо
собирательное, и потому только его одного винить -- как-то трудно. То-то и
есть, господа: не существует ли и в самом деле нечто такое, что почти
всякому человеку дороже самых лучших его выгод, или (чтоб уж логики не
нарушать) есть одна такая самая выгодная выгода (именно пропускаемая-то,
вот об которой сейчас говорили), которая главнее и выгоднее всех других
выгод и для которой человек, если понадобится, готов против всех законов
пойти, то есть против рассудка, чести, покоя, благоденствия, -- одним
словом, против всех этих прекрасных и полезных вещей, лишь бы только
достигнуть этой первой первоначальной, самой выгодной выгоды, которая ему
дороже всего. -- Ну, так все-таки "выгоды же", -- перебиваете вы меня. --
Позвольте-с, мы еще объяснимся, да и не в каламбуре дело, а в том, что эта
выгода именно тем и замечательна, что все наши классификации разрушает и
все системы, составленные любителями рода человеческого для счастья рода
человеческого, постоянно разбивает. Одним словом, всему мешает. Но прежде,
чем я вам назову эту выгоду, я хочу себя компрометировать лично и потому
дерзко объявляю, что все эти прекрасные системы, все эти теории разъяснения
человечеству настоящих нормальных его интересов с тем, что оно, необходимо
стремясь достигнуть этих интересов, стало бы тотчас же добрым и
благородным, -- покамест, по моему мнению, одна логистика! Да-с, логистика.
Ведь утверждать хоть эту теорию обновления всего рода человеческого
посредством системы его собственных выгод, ведь это, по-моему, почти то
же... ну, хоть утверждать, например, вслед за Боклем, что от цивилизации
человек смягчается, следственно, становится менее кровожаден и менее
способен к войне. По логике-то, кажется, у него так и выходит. Но до того
человек пристрастен к системе и к отвлеченному выводу, что готов умышленно
исказить правду, готов видом не видать и слыхом не слыхать, только чтоб
оправдать свою логику. Потому и беру этот пример, что это слишком яркий
пример. Да оглянитесь кругом: кровь рекою льется, да еще развеселым таким
образом, точно шампанское! Вот вам все наше девятнадцатое столетие, в
котором жил и Бокль. Вот вам Наполеон -- и великий, и теперешний. Вот вам
Северная Америка -- вековечный союз. Вот вам, наконец, карикатурный
Шлезвиг-Гольштейн... И что такое смягчает в нас цивилизация? Цивилизация
вырабатывает в человеке только многосторонность ощущений и... решительно
ничего больше! А через развитие этой многосторонности человек еще, пожалуй,
дойдет до того, что отыщет в крови наслаждение. Ведь это уж и случалось с
ним. Замечали ли вы, что самые утонченные кровопроливцы почти сплошь были
самые цивилизованные господа, которым все эти разные Атиллы, да Стеньки
Разины иной раз в подметки не годились, и если они не так ярко бросаются в
глаза, как Атилла и Стенька Разин, так это именно потому, что они слишком
часто встречаются, слишком обыкновенны, примелькались. По крайней мере, от
цивилизации человек стал если не более кровожаден, то уж наверное хуже,
гаже кровожаден, чем прежде. Прежде он видел в кровопролитии справедливость
и с спокойною совестью истреблял кого следовало; теперь же мы хоть и
считаем кровопролитие гадостью, а все-таки этою гадостью занимаемся, да еще
больше, чем прежде. Что хуже? -- (ими решите. Говорят, Клеопатра (извините
за пример из римской истории) любила втыкать золотые булавки в груди своих
невольниц и находила наслаждение в их криках и корчах. Вы скажете, что это
было во времена, говоря относительно, варварские; что и теперь времена
варварские, потому что (тоже говоря относительно) и теперь булавки
втыкаются; что и теперь человек хоть и научился иногда видеть яснее, чем во
времена варварские, но еще далеко не приучился поступать так, как ему разум
и науки указывают. Но все-таки вы совершенно уверены, что он непременно
приучится, когда совсем пройдут кой-какие старые, дурные привычки и когда
здравый смысл и наука вполне перевоспитают и нормально направят натуру
человеческую. Вы уверены, что тогда человек и сам перестанет добровольно
ошибаться и, так сказать, поневоле не захочет разнить свою волю с
нормальными своими интересами. Мало того: тогда, говорите вы, сама наука
научит человека (хоть это уж и роскошь, по-моему), что ни воли, ни каприза
на самом-то деле у него и нет, да и никогда не бывало, а что он сам не
более, как нечто вроде фортепианной клавиши или органного штифтика; и что
сверх того -- на свете есть еще законы природы; так что все, что он ни
делает, делается вовсе не по его хотенью, а само собою, по законам природы.
Следственно, эти законы природы стоит только открыть, и уж за поступки свои
человек отвечать не будет и жить ему будет чрезвычайно легко. Все поступки
человеческие, само собою, будут расчислены тогда по этим законам,
математически, вроде таблицы логарифмов, до 100 000-й доли и занесены в
календарь; или, еще лучше, появятся некоторые благонамеренные издания,
вроде теперешних энциклопедических лексиконов, в которых все будет так
точно исчислено и обозначено, что на свете уже не будет более ни поступков,
ни приключений. Тогда-то, -- это все вы говорите, ~ настанут новые
экономические отношения, совсем уж готовые и тоже вычисленные с
математическою точностью, так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы,
собственно потому, что на них получатся всевозможные ответы. Тогда
выстроится хрустальный дворец. Тогда... Ну, одним словом, тогда прилетит
птица Каган. Конечно, никак нельзя гарантировать (это уж я теперь говорю),
что тогда не будет, например, ужасно скучно [См. ниже, в этих же
приложениях, о скуке при будущем окончательном устроении людей, -- и о
необходимости утолить ее, рассеять хотя бы ценою крови, временно и
преднамеренно поэтому допускаемой.] (потому что что ж и делать-то, когда
все будет расчислено по табличке), зато все будет чрезвычайно благоразумно.
Конечно, от скуки чего не выдумаешь! Ведь и золотые булавки от скуки
втыкаются, но это бы все ничего. Скверно то (это опять-таки я говорю), что,
чего доброго, пожалуй, и золотым булавкам тогда обрадуются. Ведь глуп
человек, глуп феноменально. То есть он хотя и вовсе не глуп, но уж зато
неблагодарен так, что поискать другого -- так не найти. Ведь я, например,
нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего, среди всеобщего
будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен, с неблагородной
или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливою физиономией, упрет руки в
боки и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам все это
благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с тою целью, чтоб
все эти логарифмы отправились к черту и чтоб нам опять по своей глупой воле
пожить [В одной из своих критических статей г. Н. Михайловский возражает на
это, что "подобного господина свяжут и уберут". Но это -- механический
ответ, не разрешающий психологическую задачу. И Достоевский знал, что
"убрать" можно, но уже не "уберешь", когда подобных будут тысячи, когда
встанет человечество, не насыщенное "арифметикой". Д -- ий берет задачу
насыщения, и кто хочет отвечать ему -- должен отвечать именно на этот
вопрос.]. Это бы еще ничего, но обидно то, что ведь непременно и
последователей найдет: так человек устроен. И все это от самой пустейшей
причины, об которой бы, кажется, и упоминать не стоит: именно оттого, что
человек всегда и везде, кто бы он ни был, любил действовать так, как хотел,
а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода; хотеть же можно и против
собственной выгоды, а иногда и положительно должно (это уж моя идея). Свое
собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый
дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до
сумасшествия, -- вот это-то все и есть та самая, пропущенная, самая
выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от
которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту. И с чего это
взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то
добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили они, что человеку
надо непременно благоразумно-выгодного хотенья? Человеку надо одного только
-- самостоятельного хотенья, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к
чему бы ни привела. Ну и хотенье ведь... * * * -- Ха-ха-ха! Да ведь
хотенья-то, в сущности, если хотите, и нет, -- прерываете вы с хохотом.
Наука даже по ею пору до того успела разанатомировать человека, что уж и
теперь нам известно, что хотенье и так называемая свободная воля -- есть не
что иное, как... -- Постойте, господа, я и сам так начать хотел. Я,
признаюсь, даже испугался. Я только что хотел было прокричать, что хотенье,
ведь, черт знает от чего зависит и что это, пожалуй, и слава Богу, да
вспомнил про науку-то и... осекся. А вы тут и заговорили. Ведь в самом
деле, ну, если и вправду найдут когда-нибудь формулу всех наших хотений и
капризов, то есть от чего они зависят, по каким именно законам происходят,
как именно распространяются, куда стремятся в таком-то и в таком-то случае
и проч., то есть настоящую математическую формулу, -- так ведь тогда
человек тотчас же, пожалуй, и перестанет хотеть, да еще, пожалуй, и
наверное перестанет. Ну, что за охота хотеть по табличке? Мало того: тотчас
же обратится он из человека в органный штифтик или вроде того; потому, что
же такое человек без желаний, без воли и без хотений, как не штифтик в
органном вале? Как вы думаете? Сосчитаем вероятности, -- может это
случиться или нет? -- Гм... -- решаете вы, -- наши хотенья большею частью
бывают ошибочны от ошибочного взгляда на наши выгоды. Мы потому и хотим



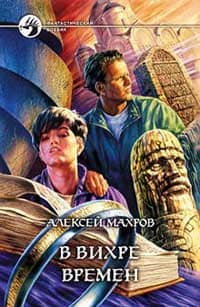
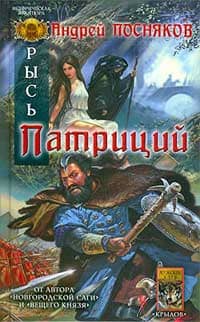
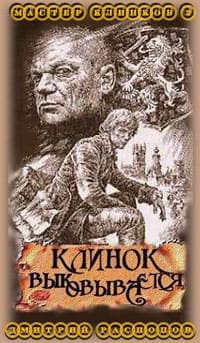
 Корнев Павел
Корнев Павел Ковальчук Вера
Ковальчук Вера Никитин Юрий
Никитин Юрий Прозоров Александр
Прозоров Александр Шекли Роберт
Шекли Роберт Пехов Алексей
Пехов Алексей