непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных
убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и
сумасшедствовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий
думал, что в нем одном заключается истина, и мучился, глядя на других, бил
себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не
могли согласиться, что считать злом, что добром [Это язык и мысли "Легенды
о Великом Инквизиторе". Несколькими строками ниже, от смутности настоящего
-- воображение продвигается вперед, к ужасу будущего. Момент этого-то ужаса
и взят в некоторых местах "Легенды", в словах "об антропофагии", о
"неумении человека различать добро и зло" и т. д.]. Не знали, кого
обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то
бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже
в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины
бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В
городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет --
никто не знал того, а все были в тревоге. Оставляли [Здесь, собственно, и
выступает неустроимость, несогласимость человеческой мысли, которая к
единству, всеобщности признания чего-либо истинным и окончательным --
никогда не придет.] самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал
свои мысли, свои поправки и не могли согласиться; остановилось земледелие.
Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не
расставаться, -- но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем
сейчас же сами предполагали [Мысль совершенно "Записок из подполья".],
начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался
голод. Все и все погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше.
Спастись во всем мире [Это уже образы "Легенды", ей "оправданных и
избранных", 144 тысяч Апокалипсиса.] могли только несколько человек: это
были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей [Через эти
слова данное место соединяется со "Сном смешного человека" в "Дневнике
писателя", с полетом на новую землю, к новой породе людей, еще чистых и
неразвращенных.] и новую жизнь, обновить и очистить землю, -- но никто и
нигде не видал этих людей, никто не слыхал их слова и голоса".
"Преступление и нак.", Эпилог, II. Здесь мы имеем, таким образом, как бы
узел, в котором связаны лучшие произведения Достоевского: это -- заключение
"Преступления и наказания", в то же время -- это тема "Бесов"; она входит,
как образующая черта, в "Легенду о Великом Инквизиторе", которая и отвечает
на потребность умиротворить этот хаос, уничтожить это смятение, и, хотя
одною стороною, косым намеком, указывает на "Сон смешного человека" в
"Дневнике писателя". К стр. 76 -- 86. "Идея понижения психического уровня
человека, сужения его природы как средство устроения судьбы его на земле
составляет вторую образующую черту "Легенды", отвечающую только что
выясненной первой". -- Первоначальное ее выражение, но без примеси
религиозно-мистических основ, было сделано Достоевским в 1870 -- 71 гг. в
романе "Бесы". Это -- теория, высказанная эпизодически вставленным лицом,
Шигалевым, и мы приведем из главы VII ("У наших", отд. II) места, в которых
или он сам, или за него другие указывают коренные пункты этой теории:
"Длинноухий Шигалев с мрачным и угрюмым видом медленно поднялся с своего
места и меланхолически положил толстую и чрезвычайно мелко исписанную
тетрадь на стол. Он не садился и молчал. Многие с замешательством смотрели
на тетрадь, но Липутин, Виргинский и хромой учитель были, казалось, чем-то
довольны. -- Посвятив мою энергию, -- начал он, -- на изучение вопроса о
социальном устройстве будущего общества, которым заменится настоящее, я
пришел к убеждению, что все созидатели социальных систем, с древнейших
времен до нашего 187... года, были мечтатели, сказочники, глупцы,
противоречившие себе, ничего ровно не понимавшие в естественной науке и в
том странном животном [Язык и тон "Легенды"; под "естественною наукою"
разумеется естественная наука о человеке, его психология, как она
выражается в фактах истории и текущей действительности.], которое
называется человеком. Платон, Руссо, Фурье, колонны из алюминия -- все это
годится разве для воробьев, а не для общества человеческого. Но так как
будущая общественная форма необходима именно теперь, когда все мы наконец
собираемся действовать, чтоб уже более не задумываться, то я и предлагаю
собственную мою систему устройства мира. Объявляю заранее, что система моя
не окончена. Я запутался в собственных данных, и мое заключение в прямом
противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу. Выходя из
безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом [Тема и "Легенды
о Великом инквизиторе".]. Прибавлю, однако ж, что, кроме моего разрешения
общественной формулы, не может быть никакого. -- Если вы сами не сумели
слепить свою систему и пришли к отчаянию, то нам-то тут чего делать? --
осторожно заметил один из слушающих. -- Вы правы, -- резко оборотился к
нему Шигалев, -- и всего более тем, что употребили слово "отчаяние". Да, я
приходил к отчаянию; тем не менее все, что изложено в моей книге, --
незаменимо, и другого выхода нет; никто ничего не выдумает. И потому спешу,
не теряя времени, пригласить все общество, по выслушании моей книги,
заявить свое мнение. Если же члены не захотят меня слушать, то разойдемся в
самом начале, -- мужчины -- чтобы заняться государственною службой, женщины
в свои кухни, потому что, отвергнув книгу мою, другого выхода они не
найдут. Ни-ка-кого! Упустив же время, повредят себе, так как потом
неминуемо к тому же воротятся [Слова об отчаянии и об отсутствии иного
выхода проникают и "Легенду".]. Среди гостей началось движение: "Что он,
помешанный, что ли?" раздались голоса... -- Тут не то-с, -- ввязался
наконец хромой. Вообще он говорил с некоторой как бы насмешливою улыбкой,
так что, пожалуй, трудно было и разобрать, искренно он говорит или шутит.
-- Тут, господа, не то-с. Г. Шигалев слишком серьезно предан своей задаче и
притом слишком скромен. Мне книга его известна. Он предлагает, в виде
конечного разрешения вопроса, -- разделение человечества на две неравные
части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над
остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться
вроде как в стадо и, при безграничном повиновении, достигнуть -- рядом
перерождений -- первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая,
хотя, впрочем, и будут работать. Меры, предлагаемые автором для отнятия у
девяти десятых человечества воли и переделки его в стадо, посредством
перевоспитания целых поколений, -- весьма замечательны, основаны на
естественных данных и очень логичны [Это уже есть логический компендиум
"Легенды"; с тем вместе, из трех формул жизни человеческой, указанных в
"Записках из подполья", мысль автора клонится к идее "Муравейника", с
заменой господствующего там неошибающегося инстинкта -- непрекословящим
повиновением.]. Можно не согласиться с иными выводами, но в уме и знаниях
автора усомниться трудно. Жаль, что условие десяти вечеров совершенно
несовместимо с обстоятельствами, а то бы мы могли услышать много
любопытного. "-- Неужели вы серьезно? -- обратилась к хромому m-me
Вергинская, в некоторой даже тревоге. -- Если этот человек, не зная, куда
деваться с людьми, обращает девять десятых их в рабство? Я давно
подозревала его. -- То есть, вы про вашего братца? -- спросил хромой. --
Родство? Вы смеетесь надо мною или нет? -- И, кроме того: работать на
аристократов и повиноваться им, как богам, -- Это подлость! -- яростно
заметила студентка. -- Я предлагаю не подлость, а рай, земной рай, -- и
другого на земле быть не может, -- властно заключил Шигалев. -- А я бы
вместо рая, -- вскричал Лямшин, -- взял бы этих девять десятых
человечества, если уж некуда с ними деваться, и взорвал их на воздух, а
оставил бы только кучку людей образованных, которые и начали бы
жить-поживать по-ученому. -- Так может говорить только шут! -- вспыхнула
студентка. -- Он шут, но полезен, -- шепнула ей m-me Вергинская. -- И,
может быть, это было бы самым лучшим разрешением задачи! - горячо
оборотился Шигалев к Лямшину. -- Вы, конечно, и не знаете, какую глубокую
вещь удалось сказать, господин веселый человек. Но так как ваша идея почти
невыполнима, то и надо ограничиться земным раем, если уж так это назвали.
-- Однако, порядочный вздор! -- как бы вырвалось у Верховенского. Впрочем,
он совершенно равнодушно и не подымая глаз продолжал обстригать свои ногти.
-- Почему же вздор-с? -- тотчас же подхватил хромой, как будто гак и ждал
от него первого слова, чтобы вцепиться. -- Почему же именно вздор? Господин
Шигалев отчасти фанатик человеколюбия; но вспомните, что у Фурье, у Кабета
особенно и даже у самого Прудона есть множество самых деспотических и самых
фантастических предрешений вопроса. Господин Шигалев даже, может быть,
гораздо трезвее их разрешает дело. Уверяю вас, что, прочитав книгу его,
почти невозможно не согласиться с иными вещами. Он, может быть, менее всех
удалился от реализма, и его земной рай есть почти настоящий -- тот самый, о
потере которого вздыхает человечество, если только он когда-нибудь
существовал". Дальнейшее изложение и оценку мысли Шигалева мы находим в
разговоре между Ставрогиным и П. Верховенским, когда они шли с вечера:
"Шигалев -- гениальный человек! Знаете ли, что это гений вроде Фурье, но --
смелее Фурье; я им займусь. Он выдумал "равенство"! -- проговорил
Верховенский. "С ним лихорадка, и он бредит; с ним что-то случилось
особенное", -- подумал о нем еще раз Ставрогин. Оба шли не останавливаясь.
-- У него хорошо в тетради, -- продолжал Верховенский, -- у него шпионство.
У него каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый
принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних
случаях -- клевета и убийство, а главное -- равенство. Первым делом
понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и
талантов доступен только высшим способностям, -- не надо высших
способностей! Высшие способности всегда захватывали власть и были
деспотами. Высшие способности не могут не быть деспотами и всегда
развращали более, чем приносили пользы, их изгоняют или казнят. Цицерону
отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза. Шекспир побивается камнями,
-- вот Шигалевщина! Рабы должны быть равны: без деспотизма еще не бывало ни
свободы, ни равенства, но в стаде должно быть равенство -- и вот
Шигалевщина! Ха-ха-ха, вам странно? Я за Шигалевщину! Ставрогин старался
ускорить шаг и добраться поскорее домой. "Если этот человек пьян, то где же
он успел напиться, -- приходило ему на ум. -- Неужели же коньяк?" --
Слушайте, Ставрогин: горы сровнять -- хорошая мысль, не смешная. Я за





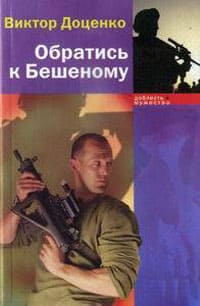
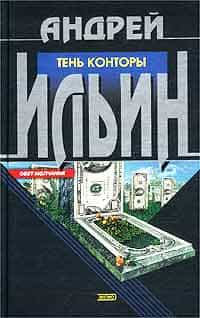 Ильин Андрей
Ильин Андрей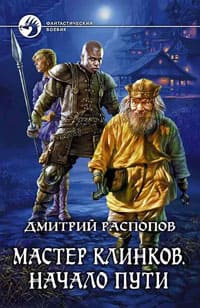 Распопов Дмитрий
Распопов Дмитрий Громыко Ольга
Громыко Ольга Конюшевский Владислав
Конюшевский Владислав Шилова Юлия
Шилова Юлия Акунин Борис
Акунин Борис