существа, его абсолютности. Насколько доступно это мистическое явление не
столько объяснению, сколько простому обозначению словами, мы можем его
выразить таким образом: то, что мы наблюдаем в человеке, его поступки,
слова, желания, все, что о нем знают другие и он знает о себе, не
исчерпывает полноты его существа; в нем есть еще иное сверх этого, и притом
главное, чего никто не знает [Факты атавизма или также факт рождения от
обыкновенных родителей гения обнаруживают и фактически присутствие в
человеке такого, чего не знает ни он в себе, ни в нем другие.].
Привязываться, любить в человеке мы должны это главное: поэтому-то и любим
мы его иногда вопреки всему, что видим в нем; напротив, ненавидеть в
человеке мы можем только внешнее и не главное, какое-то обезображение,
которому он подверг себя. Но когда, смешивая то и другое или, точнее,
ничего не зная о существовании в человеке за его наружными проявлениями еще
чего-то, мы разбиваем его образ -- мы разбиваем целое, которого не
подозревали. Мы вдруг касаемся главного, о чем не думали, и испытываем
неожиданное, что не входило в наши соображения. Таким образом, только
переступив личность человека, мы постигаем все ее значение: для нас
открывается мистический и иррациональный смысл ее, но уже поздно. Сделав
ненужным подобный опыт, обнаружив со всею убедительностью в гениальном
изображении состояние преступной совести, Достоевский оказал великую
историческую услугу. Собственно, разрешением этих двух вопросов он
заканчивал выполнение своей задачи, насколько она относилась к человеку как
существу страдающему и попранному. Но за ними поднимался теоретический
интерес, и, следуя ему-то, он вступил в безбрежную область рассматривания
того, что мы назвали швами мироздания. Первый проблеск этого стремления
мысли мы находим уже в "Преступлении и наказании". В невыразимо тяжелой
сцене между Раскольниковым и Соней, в душной комнате у этой последней, он
ей сказал о возможности для нее заражения и болезни и о необходимости тогда
гибели родной семьи, для прокормления которой она отдала себя: " -- А
копить нельзя? на черный день откладывать? -- спросил он вдруг,
останавливаясь перед ней. -- Нет, -- прошептала Соня. -- Разумеется, нет. А
пробовали? -- прибавил он чуть не с насмешкой. -- Пробовала. -- И
сорвалось! Ну, да, разумеется! Что и спрашивать! И опять пошел по комнате.
Еще прошло с минуту. -- Не каждый день получаете-то? Соня больше прежнего
смутилась, и краска ударила ей в лицо. -- Нет, -- прошептала она с
мучительным усилием. -- С Полечкой (маленькая сестра ее), наверно, то же
самое будет, -- сказал он вдруг. -- Нет! Нет! Не может быть, нет! -- как
отчаянная, громко вскрикнула Соня, как будто ее вдруг ножом ранили, -- Бог,
Бог такого ужаса не допустит!.. -- Других допускает же! -- Нет, нет! Ее Бог
защитит, Бог!.. -- повторила она, не помня себя. -- Да может, и Бога-то
совсем нет, -- с каким-то злорадством ответил Раскольников, засмеялся и
посмотрел на нее. Лицо Сони вдруг страшно изменилось" ["Преступление и
наказание", изд. седьмое, стр. 293 -- 294. Страшный смысл слов о "попытке
копить" заключается в торопливости, в жадности к разврату, которое делает и
вынуждена делать эта девушка, лишь извне растленная. Здесь Достоевский с
какою-то адскою мукою следит, как физическая нужда, ударяя в душу, как бы
продырявливает ее и раскрывает для вступления уже внутреннего порока.]. В
том же романе между Раскольниковым и его alter ego, его второю и дурною
половиной, Свидригайловым, происходит разговор на тему о привидениях и
загробной жизни. " -- Я согласен, -- говорит Свидригайлов, -- что
привидения являются только больным; но, ведь, это только доказывает, что
привидения могут являться не иначе как только больным, а не то, что их --
нет, самих по себе. Привидения -- это, так сказать, клочки и отрывки других
миров, их начало. Здоровому человеку, разумеется, их незачем видеть, потому
что здоровый человек есть наиболее земной человек, а стало быть, должен
жить одною здешнею жизнью, для полноты и для порядка. Ну а чуть заболел,
чуть нарушился нормальный земной порядок в организме, тотчас и начинает
сказываться возможность другого мира, и чем больше болен, тем и
соприкосновений с другим миром больше, так что когда умрет совсем человек,
то прямо и перейдет в другой мир. Я об этом давно рассуждал. Если в будущую
жизнь верите, то и этому рассуждению можно поверить. -- Я не верю в будущую
жизнь, -- сказал Раскольников. Свидригайлов сидел в задумчивости. -- А что,
если там одни пауки или что-нибудь в этом роде, -- сказал он вдруг. "Это
помешанный", -- подумал Раскольников. -- Нам вот все представляется
вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да
почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте
себе, будет там одна комнатка, этак вроде деревенской бани; закоптелая, а
по всем углам пауки -- и вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде
иногда мерещится. -- И неужели, неужели вам ничего не представляется
утешительнее и справедливее этого! -- с болезненным чувством вскрикнул
Раскольников (раньше он ничего не хотел говорить с Свидригайловьш). --
Справедливее? А почем знать, может быть, это и есть справедливое, и,
знаете, я бы так непременно нарочно сделал, -- отвечал Свидригайлов,
неопределенно улыбаясь. Каким-то холодом охватило Раскольникова при этом
безобразном ответе" [Там же, стр. 264 -- 265.]. Мы чувствуем душную
атмосферу каких-то странных идей и чувств. Если в том же романе есть
диалектика, оправдывающая преступление, и все-таки в целом своем душа несет
кару за него, то здесь мы видим диалектику, которая восходит до признания
"новых миров", а чувство в вопросах вечного воздаяния спускается до
каких-то пауков. "Дрожащая тварь", как называется здесь раза два человек,
ни мелочностью преступлений своих, ни своими бесполезными добродетелями не
заслуживает ни больше этого, ни меньше. Религиозный вопрос затем уже не
исчезает в произведениях Достоевского: в каждом романе он касается его, но
так, что мы живо чувствуем, как он только откладывает его до минуты, когда
в силах будет сделать это без внешних помех, неторопливо и свободно.
Наконец минута эта настала, и появились "Братья Карамазовы".
замечателен: шли последние годы прошлого царствования. Заговоры анархистов,
колебания правительства, шумная и влиятельная пресса -- все распространяло
в обществе тревогу и ожидания. Борьба партий достигла высшего напряжения,
но из них та, которая совпадала с двухвековым направлением нашей истории --
мы разумеем партию западников и приверженцев реформ, -- пользовалась
неизмеримым преобладанием в литературе и в обществе. Собственно, что всем
надеждам и уже почти требованиям этой партии суждено сбыться -- в этом
слабо сомневались даже противники ее; и все, к чему еще усиливались эти
последние, состояло в том, чтобы хоть на некоторое время задержать ее
окончательное торжество. В это-то время, почти один вслед за другим,
выступили со своим окончательным словом три наиболее влиятельные писателя:
Тургенев, гр. Л. Толстой и,последним, Достоевский. Каждый, кто только
раскрыл бы эти произведения и даже не анализировал их, тотчас почувствовал
бы, до чего сомнительна минута, в которую они появляются, как все неверно в
обществе, настроением которого они вызваны. Как и всегда, Тургенев в "Нови"
ответил текущим стремлением времени и только смягчил их несколько и
ограничил. Разносторонность и широта его образования, отсутствие
первородной крепости и хоть невысказанное, но ясное безразличие ко всему,
кроме искусства, -- все это заставило его и теперь, как прежде, попытаться
войти в круг идей и стремлений, с которыми, очевидно, у него не было ничего
родственного. Он, однажды высказавший, что в Венере Милосской есть нечто
более несомненное и вечное, чем в принципах первой французской революции,
на склоне лет своих и вопреки всему, чему отдавал жизнь, захотел войти во
вкусы людей, для которых весь мир красоты и искусства не заключал в себе
никакой значительности и смысла. Но эта противоестественная попытка, как и
можно было ожидать, вышла до того вымученною и жалкою, что все, для кого он
был дорог своими прежними произведениями, не могли смотреть на нее иначе,
как с чувством глубочайшей печали. Эту печаль, это сожаление о себе не мог
не ощутить и сам творец, и она именно придала оживление и особый колорит
его самым последним произведениям. Каждый, как человек, так и писатель, в
дарах природы своей несет и горечь и сладость своей жизни. Тургеневу
первому из наших писателей привелось снискать европейскую известность; и
когда он достиг ее и уже не было времени стремиться еще к чему-нибудь, он
вдруг увидел, что достиг чего-то самого малого: все же значительное и
ценное от него ускользнуло. Напротив, оба другие писатели, которые до тех
пор несколько заслонялись Тургеневым, заговорили с силою, как никогда
прежде, и голос их зазвучал противоречиво всему, чего хотело общество и что
оно думало. И если нужно в истории искать примера, где значение и влияние
личности было бы несомненно и отчетливо видно, ясно, -- то нельзя найти
лучшего, как в последнем фазисе деятельности этих двух писателей. В самый
разгар увлечения внешними реформами, в минуту безусловного отрицания всего
внутреннего, религиозного, мистического в жизни и в человеке, они отвергли,
как совершенно незначащее, все внешнее, -- и обратились к внутреннему и
религиозному. И общество, сперва удивленное и негодующее, но и очарованное
их словом, вначале поодиночке и потом массами, точно поволоклось ими в
противоположную сторону, чем куда шло; в жизни его совершился перелом, и мы
стоим теперь на совершенно иных путях, нежели те, на каких стояли еще так
недавно. В "Анне Карениной" с недосягаемым совершенством формы соединилось
глубокое и строгое содержание. Более, нежели в "Войне и мире", над всеми
группами выведенных лиц здесь господствует мысль художника, это теснее
сжимает их и придает всему произведению больше единства и цельности. Группы
и сцены менее широко разбрасываются, не так свободно живут, все
устремляется как будто к одному невидимому центру, который впереди. Взамен
эпического спокойствия, которое царит в "Войне и мире", придавая всем
событиям и лицам этого романа размеренную неторопливость, в "Анне
Карениной" мы ощущаем присутствие чего-то встревоженного и ищущего. Это
сообщает всему произведению лиризм. Оставляя "Войну и мир", читатель
испытывает ясное удовлетворение; напротив, окончив "Анну Каренину", он



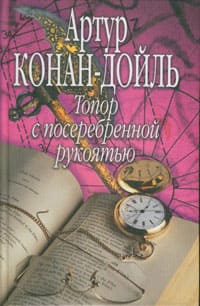

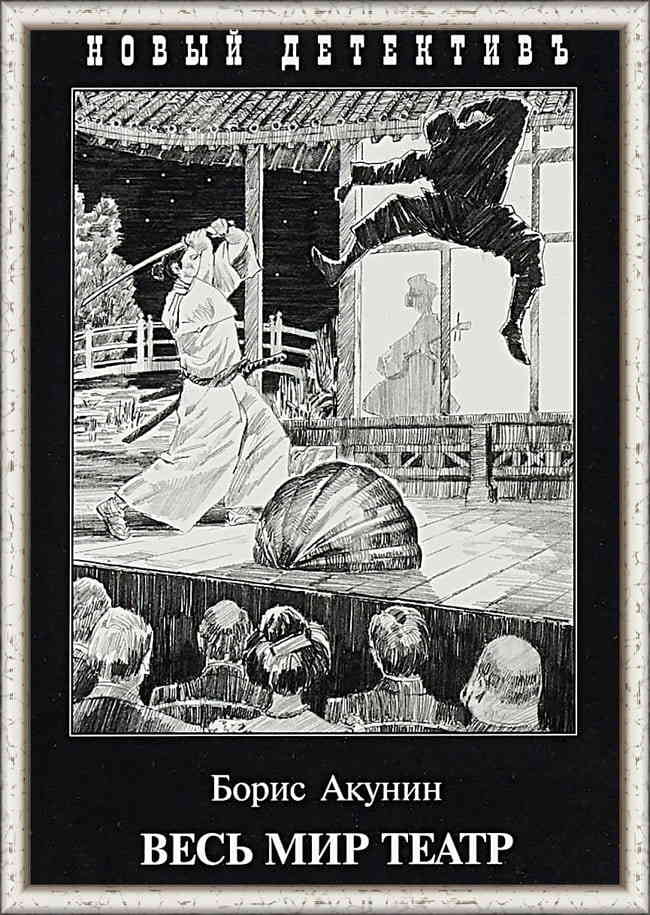
 Орлов Алекс
Орлов Алекс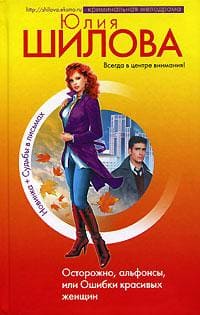 Шилова Юлия
Шилова Юлия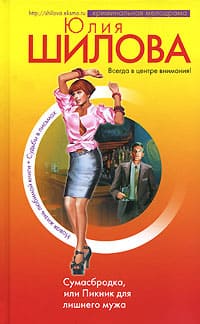 Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия Прозоров Александр
Прозоров Александр Афанасьев Роман
Афанасьев Роман