разнообразие явлений, собранных и классифицированных по группам; группы вновь
объединяются, благодаря чему самые разнообразные явления оказываются связанными
в более крупные объединения, которые можно обозначить одним знаком или
иероглифом. Целый ряд таких иероглифов представляет собой жизнь или видимый мир
на некотором расстоянии от неё. Итак, сверху идёт процесс дифференциации, снизу
- процесс интеграции. Но дифференциация и интеграция никогда не встречаются.
Между тем, что находится вверху, и тем, что находится внизу, существует пустое
пространство, в котором ничего не видно. Верхние линии дифференциации, умножаясь
в числе и приобретая разнобразную окраску, быстро сливаются и погружаются в это
пустое пространство, отделяющее то, что находится вверху, от того, что находится
внизу. А снизу всё бесконечное разнообразие явлений очень скоро преобразуется в
принципы, необыкновенно богатые по своему смыслу и иероглифическим обозначениям;
тем не менее, они остаются меньшими, чем самые последние из верхних линий.
Именно в таком приблизительно графическом выражении являлись мне эти два аспекта
мира и вещей. Я мог бы, пожалуй, утверждать, что сверху и снизу мир изображался
в разных масштабах, и эти два масштаба для меня никогда не встречались, никогда
не переходили один в другой, оставались несоизмеримыми. В этом как раз и
состояла главная трудность, и я постоянно её ощущал. Я понимал, что если бы мне
удалось перекинуть мост от того, что внизу, к тому, что вверху, или, ещё лучше,
в противоположном направлении, т.е. сверху вниз, я постиг бы всё, что находилось
внизу, ибо, начиная сверху, т.е. с фундаментальных принципов, было бы легко и
просто понять всё, находящееся внизу. Но мне никак не удавалось соединить
принципы с фактами, как я уже сказал, хотя все факты быстро погружались в
усложнённые иероглифы, эти последние всё же сильно отличались от верхних
принципов.
Ничто из того, что я пишу о своих экспериментах, ничто из того, что можно ещё о
них сказать, не будет понято, если не обратить внимания на их постоянный
эмоциональный тон. Эти опыты вовсе не были моментами покоя, бесстрастия и
невозмутимости; наоборот, они были пронизаны эмоциями, чувствами, почти
страстью.
Самой необычной вещью, связанной с экспериментами, было возвращение, переход к
обычному состоянию, которое мы называем жизнью. Этот момент чем-то очень
напоминал смерть, по крайней мере, как я её себе представляю. Возвращение обычно
происходило, когда я просыпался утром после эксперимента, проведённого прошлым
вечером. Эксперименты почти всегда завершались сном; во время сна я, вероятно, и
переходил в обычное состояние и просыпался в знакомом мире - в том мире, в
котором мы просыпаемся каждое утро. Но теперь этот мир имел в себе что-то
чрезвычайно тягостное, представал невероятно пустым, бесцветным, безжизненным.
Казалось, всё в нём стало деревянным, как если бы он был гигантской деревянной
машиной со скрипучими деревянными колесами, деревянными мыслями, деревянным
настроением и деревянными ощущениями. Всё было страшно медленным, всё едва
двигалось или двигалось с тоскливым деревянным скрипом. Всё было мёртвым,
бездушным, бесчувственным.
Они были ужасны, эти минуты пробуждения в нереальном мире после пребывания в
мире реальном, в мёртовм мире после живого, в мире ограниченном, рассечённым на
куски, после мира целостного и бесконечного.
Итак, благодаря своим экспериментам я не открыл каких-либо новых фактов, зато
приобрёл новые мысли. Когда я обнаружил, что я так и не достиг своей
первоначальной цели, т.е. объективной магии, я начал думать, что искусственное
создание мистических состояний могло бы стать началом нового метода в
психологии. Эта цель была бы мною достигнута, если бы я умел изменять состояние
своего сознания, полностью сохраняя при этом способность к наблюдению. Но как
раз это оказалось совершенно невозможным. Состояния сознания менялись, но я не
мог контролировать эту перемену, никогда не мог сказать наверняка, каков будет
результат эксперимента, не всегда даже был в состоянии наблюдать, так как идеи
следовали одна за другой и исчезали слишком быстро. Пришлось признать, что,
несмотря на открытые новые возможности, мои эксперименты не давали материала для
точных выводов. Главный вопрос о взаимоотношениях субъективной и объективной
магии и об отношении их к мистике остался без ответа.
Но после этих экспериментов я стал по-новому смотреть на многие вещи. Я понял,
что многие философские и метафизические системы, совершенно разные по своему
содержанию, могли на самом деле быть попытками выразить именно то, что мне
довелось узнать и что я пытался описать. Я понял, что за многими научными
дисциплинами о мире и человеке, возможно, скрываются опыты и ощущения, сходные с
моими, даже идентичные им. Я понял, что в течение сотен и тысяч лет мысль
человека всё время кружила вокруг чего-то такого, что ей никак не удавалось
выразить.
Во всяком случае, мои эксперименты с неоспоримой ясностью установили для меня
возможность соприкосновения с реальным миром, пребывающим по ту сторону
колеблющегося миража видимого мира. Я понял, что познать этот реальный мир
можно; но во время экспериментов мне стало ясно, что для этого необходим иной
подход, иная подготовка.
Сопоставив всё, что я читал и слышал об этом, я не мог не увидеть, что многие до
меня пришли к тем же результатам; и весьма вероятно, что многие пошли
значительно дальше меня. Но все они неизбежно встречались с теми же самыми
трудностями, а именно, с невозможностью передать на мёртвом языке впечатления от
живого мира. Так было со всеми, кроме тех, кому известен другой подход. И я
пришёл к выводу, что без их помощи сделать что-либо невозможно.
1912 - 1929 гг.
ГЛАВА 9. В ПОИСКАХ ЧУДЕСНОГО
Собор Парижской Богоматери. - Египет и пирамиды. - Сфинкс. - Будда с сапфировыми
глазами. - Душа царицы Мумтаз-и-Махал. - Дервиши мевлеви.
1. Собор Парижской Богоматери.
Когда я смотрел вниз с башен Нотр-Дам, у меня возникало множество странных
мыслей. Сколько столетий прошло под этими башнями! Как много перемен - и как
мало что-либо изменилось!
Маленький средневековый городок, окружённый полями, виноградниками и лесом.
Затем растущий Париж, который несколько раз передвигал свои стены. Париж
последних столетий, который, как заметил Виктор Гюго, 'меняет своё лицо раз в
пятьдесят лет'. И люди... Они вечно куда-то идут мимо этих башен, вечно куда-то
торопятся - и всегда остаются там же, где были; они ничего не видят, ничего не
замечают; это одни и те же люди. И башни одни и те же, с теми же химерами,
которые смотрят на город, вечно меняющийся, вечно исчезающий и вечно остающийся
одним и тем же.
Здесь ясно видны две линии в жизни человечества. Одна - жизнь всех людей внизу;
другая - линия жизни тех, кто построил Нотр-Дам. Глядя вниз с этих башен,
чувствуешь, что подлинная история человечества, достойная упоминания, и есть
история строителей Нотр-Дам, а не тех, кто проходит мимо. И вы понимаете, что
две эти истории несовместимы.
Одна история проходит перед нашими глазами; строго говоря, это история
преступлений, ибо если бы не было преступлений, не было бы и истории. Все
важнейшие поворотные моменты и стадии этой истории отмечены преступлениями:
убийствами, актами насилия, грабежами, войнами, мятежами, избиениями, пытками,
казнями. Отцы убивают детей, а дети - отцов; братья убивают друг друга; мужья
убивают жён, жёны - мужей; короли убивают подданных, подданные - королей.
Это одна история - та история, которую знает каждый, история, которой учат в
школе.
Другая история - это история, которая известна очень немногим. Большинство людей
вообще не видит её за историей преступлений. Но то, что создаётся этой скрытой
историей, существует и много позже, иногда веками, как существует Нотр-Дам.
Видимая история, та, что протекает на поверхности, история преступлений,
приписывает себе то, что создала скрытая история. Но в действительности видимая
история всегда обманывается насчёт того, что создала скрытая история.
О соборе Нотр-Дам написано очень много; на самом же деле о нём известно так
мало! Тот, кто не пробовал самостоятельно о нём что-то узнать, получить нечто из
доступного материала, никогда не поверит, как мало сведений имеется о постройке
этого собора. На строительство потребовалось много лет; известны имена
епископов, которые так или иначе способстовали сооружению собора, а также имена
королей и пап того времени. Но о самих строителях не осталось никаких сведений;
известны только их имена, да и то не все. * Не сохранилось никаких фактов о
школах, которые стояли за тем, что было создано в этот удивительный период,
начавшийся приблизительно в 1000 году и продолжавшийся около четырёх веков.
Известно, что в то время существовали школы строителей. Конечно, они должны были
существовать, поскольку каждый мастер обычно работал и жил вместе со своими
учениками. Так работали живописцы и скульпторы; естественно, так же работали и
архитекторы. Но за этими школами стояли другие объединения очень неясного
происхождения, и это были не просто школы архитекторов или каменщиков.
Строительство соборов было частью колоссального и умно задуманного плана,
который позволял существовать совершенно свободным философским и психологическим
школам в этот грубый, нелепый, жестокий, суеверный, ханжеский и схоластический
период средневековья. Школы оставили нам огромное наследство; но мы почти всё
утратили, ибо не поняли ни его смысла, ни ценности.
Школы, построившие готические соборы, были столь хорошо скрыты, что сейчас их
следы находят только те, кто уже знает, что эти школы должны были существовать.
Несомненно, Нотр-Дам построила не католическая церковь XI-XII веков, у которой
уже тогда были для еретиков пытки и костёр, пресекавшие свободную мысль. Нет ни
малейшего сомнения в том, что в то время церковь оказалась орудием сохранения и
распространения идей подлинного христианства, т.е. истинной религии и истинного
знания, абсолютно чуждых церкви.
Нет ничего невероятного в том, что план постройки соборов и организации школ под
покровом строительной деятельности возник вследствие усиления 'еретикомании' в
католической церкви, а также потому, что церковь быстро утрачивала качества,
которые делали её убежищем знания. К концу первого тысячелетия христианской эры




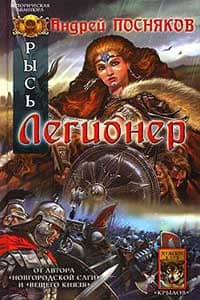
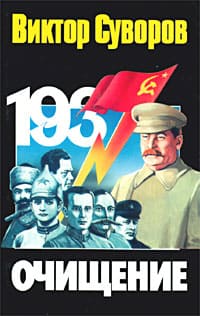
 Шилова Юлия
Шилова Юлия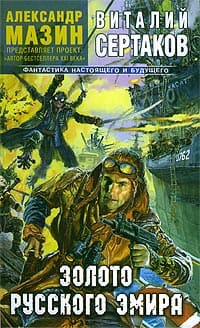 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Афанасьев Роман
Афанасьев Роман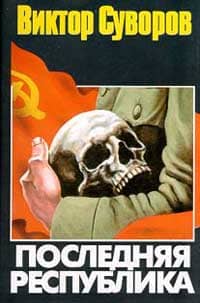 Суворов Виктор
Суворов Виктор Шилова Юлия
Шилова Юлия Каменистый Артем
Каменистый Артем