тряски, что преследовали их и в забытьи. Даже сон не был им
надежным приютом.
Европы, они лишились домика в департаменте Нор, крохотного
садика, трех горшков герани, какие я видел когда-то в окнах
польских шахтеров,-- и мне казалось, они наполовину потеряли и
человеческий облик. Они захватили с собой лишь кухонную утварь,
одеяла да занавески, жалкие пожитки в расползающихся, кое-как
стянутых узлах. Пришлось бросить все, что им было дорого, все,
к чему они привязались, всех, кого приручили за четыре-пять лет
во Франции: кошку, собаку, герань,-- они могли увезти с собой
лишь кастрюли да сковородки.
казалась спящей. Среди бессмыслицы и хаоса этих скитаний
передавалась ребенку жизнь. Я посмотрел на отца. Череп тяжелый
и голый, как булыжник. Скованное сном в неловкой позе,
стиснутое рабочей одеждой бесформенное и неуклюжее тело. Не
человек -- ком глины. Так по ночам на скамьях рынка грудами
тряпья валяются бездомные бродяги. И я подумал: нищета, грязь,
уродство-- не в этом дело. Но ведь вот этот человек и эта
женщина когда-то встретились впервые, и, наверное, он ей
улыбнулся и, наверное, после работы принес ей цветы. Быть
может, застенчивый и неловкий, он боялся, что над ним
посмеются. А ей, уверенной в своем обаянии, из чисто женского
кокетства, быть может, приятно было его помучить. И он,
превратившийся ныне в машину, только и способную ковать или
копать, томился тревогой, от которой сладко сжималось сердце.
Непостижимо, как же они оба превратились в комья грязи? Под
какой страшный пресс они попали? Что их так исковеркало?
Животное и в старости сохраняет изящество. Почему же так
изуродована благородная глина, из которой вылеплен человек?
беспокойным сном. Храп, стоны, невнятное бормотанье, скрежет
грубых башмаков по дереву, когда спящий, пытаясь устроиться
поудобнее на жесткой лавке, переворачивается с боку на бок,--
все сливалось в глухой, непрестанный шум. А за всем этим --
неумолчный рокот, будто перекатывается галька под ударами
прибоя.
кое-как примостился малыш. Но вот он поворачивается во сне, и
при свете ночника я вижу его лицо. Какое лицо! От этих двоих
родился на свет чудесный золотой плод. Эти бесформенные,
тяжелые кули породили чудо изящества и обаяния. Я смотрел на
гладкий лоб, на пухлые нежные губы и думал: вот лицо музыканта,
вот маленький Моцарт, он весь -- обещание! Он совсем как
маленький принц из сказки, ему бы расти, согретому неусыпной
разумной заботой, и он бы оправдал самые смелые надежды!
розу, все садовники приходят в волнение. Розу отделяют от
других, о ней неусыпно заботятся, холят ее и лелеют. Но люди
растут без садовника. Маленький Моцарт, как и все, попадет под
тот же чудовищный пресс. И станет наслаждаться гнусной музыкой
низкопробных кабаков. Моцарт обречен.
страдают от своей судьбы. И не сострадание меня мучит. Не в том
дело, чтобы проливать слезы над вечно не заживающей язвой. Те,
кто ею поражен, ее не чувствуют. Язва поразила не отдельного
человека, она разъедает человечество. И не верю я в жалость.
Меня мучит забота садовника. Меня мучит не вид нищеты -- в
конце концов люди свыкаются с нищетой, как свыкаются с
бездельем. На Востоке многие поколения живут в грязи и отнюдь
не чувствуют себя несчастными. Того, что меня мучит, не
излечить бесплатным супом для бедняков. Мучительно не уродство
этой бесформенной, измятой человеческой глины. Но в каждом из
этих людей, быть может, убит Моцарт.


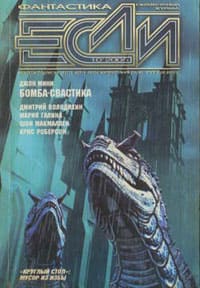
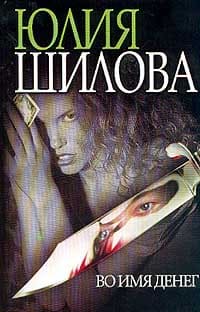


 Скальци Джон
Скальци Джон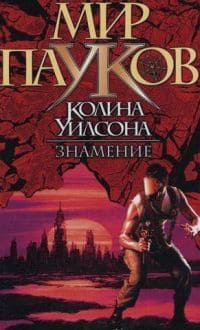 Прозоров Александр
Прозоров Александр Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк Круз Андрей
Круз Андрей Лондон Джек
Лондон Джек